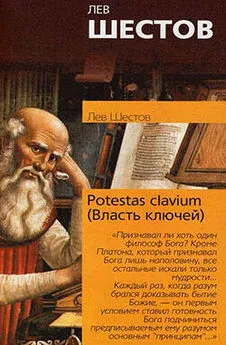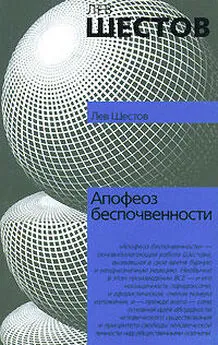Лев Шестов - Potestas clavium (Власть ключей)
- Название:Potestas clavium (Власть ключей)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, АСТ Москва, Хранитель
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-043634-7, 978-5-9713-5124-5, 978-5-9762-3231-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Шестов - Potestas clavium (Власть ключей) краткое содержание
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.
«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…»
Potestas clavium (Власть ключей) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Федоне» Платон говорит, что самое большое несчастье, которое может приключиться человеку, это – если он станет μισόλογος’ом, т. е. ненавистником разума, и что этого нужно беречься больше всего на свете. Эта мысль проникает всю эллинскую философию и, по-видимому, чрез Филона Иудейского попала в Евангелие, а оттуда в христианскую философию. Сократ побивал своих противников в спорах всегда одним способом: он доказывал им, что в их жизни и поступках нет той внутренней связи и последовательности, которые он всегда умел находить в мыслях и словах. И он, конечно, был прав. В языке, в «слове» много больше логики, чем в жизни и душе какого хотите человека. В конце концов, только в «слове» и есть логика и выдержанная последовательность. Ни Алкивиад, ни Перикл, ни даже, нужно думать, сам Сократ, если бы можно было выявить его душевную жизнь, никогда в смысле выдержанности и последовательности не могли сравниться с разработанным до тонкостей языком эллинов, который в руках мастера был образцом послушания и связности. И причину этого нужно видеть, главным образом, в том, что язык оперирует преимущественно, если не исключительно, общими понятиями. Ведь даже собственные имена – уже общие понятия: каждое собственное имя есть отвлечение от того или иного предмета, ибо представляет его не в определенное время и в определенном месте, а всегда и везде. Цезарь есть Цезарь и младенец, и отрок, и старик, и в Риме, и в Галлии, и в бодрствовании, и во сне. Назвав человека или предмет по имени, мы уже тем самым от свойственной всей действительности, т. е. всему «особенному», сложной и не передаваемой словами загадочной случайности сразу перешли в область общего с ее простотой, прозрачностью, закономерной необходимостью и потому понятностью.
Существует мнение, что человек как разумное существо отличается от животных как от существ неразумных именно тем, что посредством мышления он способен переходить – или, по Гегелю, возвышаться – от частного к общему. Я думаю, что тут кроется заблуждение, и очень серьезное. Способность видеть в предметах общее вовсе не есть исключительная способность человека: все животные воспринимают в предметах общее, и низшие в большей степени, чем высшие. Для волка или льва ягненок – только пища; и в этом смысле все ягнята – суть лишь ягнята вообще. То же для орла или кондора. «Особенное» животные замечают редко: только разве в своих детенышах, и то не всегда. Птицы, как известно, не умеют даже отличать свои яйца, и маленькая трясогузка высиживает подложенное ей кукушкино яйцо. Я уже не говорю о низших организмах, для которых существуют, по-видимому, только самые общие представления: пища и не пища. Так что, в противоположность Гегелю и тем, от которых он принял основоположение своей философии, нужно считать способность отвлекаться от частного к общему не возвышением, а падением, если, конечно, принять, что в лестнице живых существ человеку принадлежит более высокое место, чем животным. А раз так, то, стало быть, надо думать, что в λόγος’е – слове – может и не быть всего разума, как и в virtus’e – храбрости – всей добродетели. Если угодно – в начале и было слово – но лишь потому, что в начале, по крайней мере в том начале, до которого может добраться своим близоруким глазом человек, все еще было очень элементарно (в начале, повторяю, живые существа искали только пищи, какой угодно пищи, пищи вообще), и многого тогда еще совсем и не было. Потом, когда пища вообще и все то «вообще», что является необходимым условием существования живых организмов, было найдено и, в особенности, когда появился культурный человек с большими запасами этого «общего», так что можно было о нем совсем больше и не заботиться, когда, стало быть, появился досуг и с досугом возможность интересоваться не только необходимым, но чем угодно, – тогда только впервые со всей силой сказалось значение частного и индивидуального. В начале все люди были равны и отличались разве только количественно: один сильнее, другой слабее, физически, разумеется. В начале не было Сократа и Мелита, Патрокла и Терсита, а были только люди вообще. Тогда Гомеру или Шиллеру и другим певцам нечего было бы делать, так как было одно общее, которое все воспевали однообразными, надо полагать, словами и еще более однообразными делами…
III
Как же случилось с философией, и как раз с той философией, которая так настойчиво всегда претендовала на возвышенность и которая, по-видимому, и в самом деле хотела быть возвышенной и только возвышенной, что она прославила идеал пещерного человека и даже беспозвоночного животного? Атавизм ли здесь был причиной, или тут простая какая-нибудь тайна? Почему в истории философии победителем оказался Аристотель, а не Платон?
Почему даже христианство соблазнилось логосом, а новое время никак не может освободиться от чар гегелевской философии, и даже верующие люди уже могут верить только в бытие «общего» Бога, т. е. Бога понятия, и убеждены, что всякая другая вера предосудительна и даже совершенно невозможна для просвещенного человека? И точно ли невозможна она? Или мы вправе потребовать, наконец, по отношению к полученному нами от эллинов наследству, beneficium inventarii, [208]о котором не думали наши отцы? Но как и от кого требовать? Кто скажет нам наверняка, есть ли 1-й стих 4-го Евангелия откровение или интерполяция позднейшего времени, когда Св. Писание было уже не в руках нищих духом, для которых оно предназначалось, а в руках избалованной или просвещенной эллинской мудростью римской знати? И кто поможет решить нам вопрос: где искать настоящего Платона – в его мифологии или в научно обработанной Аристотелем его теории идей?
Сейчас, как известно, европейская философия ведет ожесточенную борьбу с «психологизмом». Дело, конечно, не новое. Психологизм всегда существовал. И идеалистическая философия всегда с ним боролась. В новейшее время мы едва ли можем назвать кого-либо другого, кто был бы более ожесточенным и непримиримым противником психологизма, чем Гегель: уже из того, что я до сих пор о нем рассказывал, это достаточно явствует. Но вот у самого Гегеля мы встречаем такое рассуждение: «каждый человек не колеблясь говорит: несомненно, что вещи, которые я вижу, существуют. Но на самом деле неправда, что он верит в их реальность; на самом деле он допускает противуположное, ибо он ест и пьет их, – т. е. убежден, что вещи сами по себе не существуют, что бытие их не имеет никакой прочности, не имеет сущности. Обыкновенный рассудок, таким образом, в своих действиях оказывается лучшим, чем в своем мышлении: ибо его действующее существо есть целостный дух». Объяснение Гегеля оставим в стороне, ибо оно, как всякое объяснение, спорно. Но факт бесспорен: человек, думающий, что вещи существуют, вместе с тем знает, что они не существуют, и это знание его выражается не в слове, не в словах, а совсем по-иному, в действиях, – но все же выражается так, что о нем могут оказаться осведомлены и другие, например, Гегель, а за ним и его читатели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: