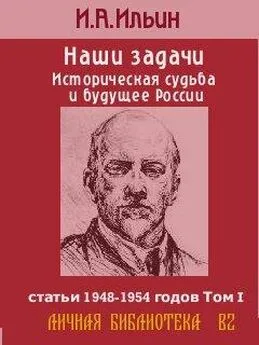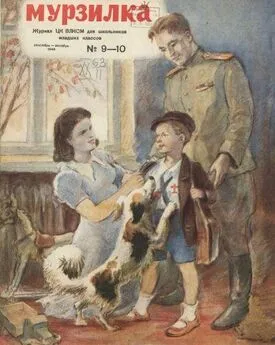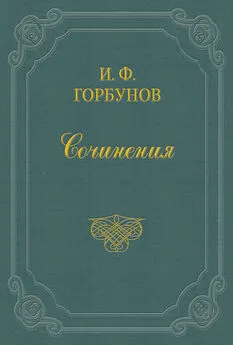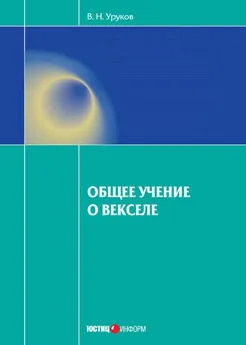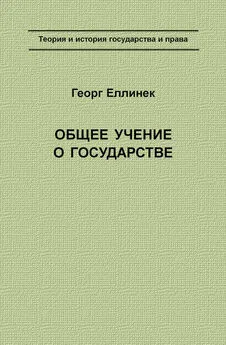Иван Ильин - Общее учение о праве и государстве
- Название:Общее учение о праве и государстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-268-01394, 5-268-01393-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Ильин - Общее учение о праве и государстве краткое содержание
Первая оригинальная работа Ильина – «Понятия права и силы. Опыт методологического анализа» (1910) – посвящена, казалось бы, частному вопросу: можно ли в определенном отношении считать тождественными право и силу? Главный смысл работы Ильина заключается в демонстрации того, что право в его сущ ностном понимании не есть «реальность» в обычном смысле этого слова. Право есть внешнее выражение некоторых глубинных отношений между людьми, выходящих за пределы их существования в материальном мире. Утверждая, что в чисто юридическом и логическом плане право принципиально отличается от силы, главный признак которой – ее непосредственное осуществление в материальном мире, Ильин фактически утверждает, что право есть феномен, связанный с некоторой сверхэмпирической сферой, лишь опосредованно проявляющейся в реальности эмпирического мира, в отношениях сосуществующих правовых индивидов.
«Общее учение о праве и государстве» это вторая часть книги «Понятия права и силы. Опыт методологического анализа»
Общее учение о праве и государстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь должно быть понятно отличие правовых норм от норм морали. Они отличаются, во-первых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в морали – внутренний авторитет: голос совести ; в праве – внешний авторитет: другие люди , строго определенные и особо уполномоченные ); во-вторых, по тому порядку, в котором правило устанавливается (в морали – самостоятельное восприятие и формулирование голоса совести, данного каждому особо; в праве – последовательное прохождение правила через все строго установленные этапы рассмотрения, в котором участвуют многие люди); в-третьих, по тому, кто получает предписание (в морали – добровольно признавший требование совести; в праве – всякий член союза, указанный в норме, независимо от его согласия и признания); в-четвертых, по тому поведению, которое предписывается в норме (в морали – внутреннее поведение , выражающееся и во внешних поступках; в праве – внешнее поведение , которое может, однако, привести и к рассмотрению душевного состояния; и, наконец, в-пятых, по санкции (в морали – укор совести и чувство вины; в праве – угроза неприятными последствиями и внешние принудительные меры).
§ 9. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО. ТРЕБОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Несмотря на то, что между нормами права и нормами морали имеются столь существенные отличия, между ними не порывается и не должна порываться живая связь .
Отношение между правом и моралью может слагаться правильно и неправильно. Правильное отношение между ними существует тогда, когда право, не выходя из своих пределов, согласуется по существу с требованиями морали и является для нее подготовительной ступенью и поддержкою; а мораль, с своей стороны, служа для права высшим мерилом и руководителем, придает правовым велениям то глубокое значение и ту обязательную силу , которая присуща нормам морали. Это бывает, следовательно, тогда, когда право, с одной стороны, предписывает людям такое внешнее поведение, которое может быть одобрено и совестью (напр., служение общему благу, ненарушение чужой свободы, неподкупность, защиту родины, исполнение обязательств, принятых на себя добровольно, и т. д.); когда оно, с другой стороны, воспрещает людям те внешние поступки, которых и совесть не одобряет (напр., нарушение данного слова, обман, причинение вреда, насилие, притеснение, убийство и т. д.); и когда, наконец, право, не разрешая людям никаких нравственно предосудительных деяний, устанавливает в людских отношениях справедливый порядок.
Справедливость требует, чтобы люди вообще обсуждали и рассматривали свои отношения и судили других людей, имея в виду «действительное положение вещей», т. е. не только внешнюю поверхностную видимость отношений и поступков, но их подлинную сущность и нравственное значение . Дело в том, что на свете ни одно событие не повторяется целиком, как оно есть, хотя внимательное научное наблюдение выделяет без труда черты сходства в явлениях мира. Однако каждый раз, как мы присмотримся к событию повнимательней, так окажется, что оно представляет из себя нечто совершенно новое. Во-первых, все подлежит непрерывному развитию и изменению: и вода, и земля, и растения, и животные; и сами люди постоянно изменяются, развиваясь и внутренне, и внешне; достаточно подумать, например, что тело каждого из нас совершенно , хотя и незаметно, обновляется на протяжении десяти лет. Во-вторых, все вещи и все люди в сущности неодинаковы , хотя отчасти могут походить друг на друга и взаимно напоминать друг друга; но происхождение от разных предков и родителей, различное воспитание, строение тела, характер души, личные способности и склонности – все это делает каждого из нас единственным в своем роде и неповторяемым. Это еще не придает никому из нас особенной ценности, но ведет к тому, что на свете действительно ничего не повторяется . Между тем, если человек будет останавливаться вниманием и мыслью только на единичных, индивидуальных явлениях жизни, то он неизбежно растеряется как в теоретическом познании, так и в практическом руководстве: он не найдет ни одного «закона природы» и не создаст ни одной «нормы поведения» (см. § 1). Потому что и в том, и в другом человек останавливается именно на похожем и одинаковом, отвлекая его мысленно от несходного и условно закрывая себе глаза на неодинаковое. Норма, если она не превращается в императив, всегда имеет в виду лишь одинаковое, «типическое» во многих возможных различных случаях; поэтому она по необходимости не учитывает каждый отдельный случай в его неповторяемой особливости, в его прихотливом своеобразии: и этим она как бы «уравнивает» все случаи, т. е. рассматривает их так, как если бы они были одинаковы , тогда как на самом деле они остаются неодинаковыми . И вот здесь возникает опасность, что правовые нормы окажутся чрезмерно отвлеченными, рассматривающими всю жизнь как бы с высоты птичьего полета и все уравнивающими. Чрезмерная удаленность и общность права неминуемо поведет к его несправедливости , мы все чувствуем и сознаем, что люди не равны между собою: справедливая норма не может возлагать одинаковые обязанности на ребенка и на взрослого, на бедного и на богатого, на женщину и на мужчину, на больного и на здорового; ее требования должны быть соразмерны личным силам, способностям и имущественному положению людей: кому больше дано, с того больше и взыщется. Поэтому справедливость требует, чтобы правовые нормы сохраняли в своих требованиях соразмерность действительным свойствам и деяниям людей .
Однако, с другой стороны, невозможно создавать для каждого отношения людей особую правовую норму, приспособленную именно к этому отношению во всех его особенностях и деталях и в силу этого не подходящую более ни к одному отношению. Понятно, что в таком случае нормы превратились бы в единичные императивы и количество правовых императивов должно бы было неминуемо разрастись до бесконечности.
Такой порядок был бы опять-таки сразу и вреден , и несправедлив .
Если бы право, стремясь к соответствию с действительными свойствами и деяниями людей, стало вмешиваться во все второстепенные детали человеческих отношений, предусматривая каждый шаг и стесняя каждое проявление, то произошло бы следующее. Во-первых , оно потерпело бы неудачу в осуществлении этого, ибо невозможно предусмотреть заранее каждый индивидуальный случай, могущий возникнуть в будущем: будущее всегда чревато непредвидимыми событиями , всегда новыми и почти всегда неожиданными, и весь труд оказался бы здесь тщетным; невозможно также увеличивать число правовых правил до бесконечности, ибо это породило бы только замешательство и вместо устроения жизни возникло бы горшее расстройство. Во-вторых , вмешательство права во все жизненные детали для того, чтобы заранее с точностью отмерить для каждого случая соответствующую дозу правовых последствий, привело бы к тому, что люди из-за этой мелочной предусмотрительности утратили бы всякую инициативу и всякий почин, всякую возможность свободной самодеятельности (см. § 5); а между тем право есть опора для свободной и согласной деятельности людей, но не педантическая опека над их деятельностью; оно должно укрепить в людях правосознание, но не отучить их от самодеятельности. В-третьих , такое вмешательство права, с его внешними предписаниями, во все жизненные детали стеснило бы и ограничило бы ту область, в которой господствует и свободно развивается моральное чувство , или голос совести ; право не должно переходить свою границу и вторгаться в сферу свободных и добровольных душевных движений и их естественных внешних проявлений, иначе утратится дружная и согласованная работа морали и права над усовершенствованием человеческой жизни. Вот почему такой порядок был бы вреден .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: