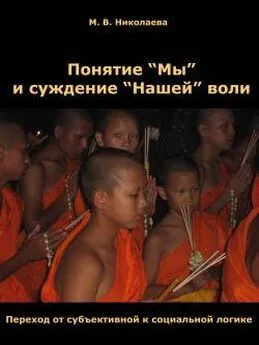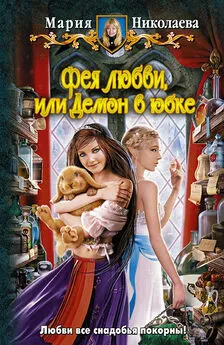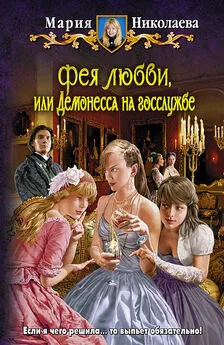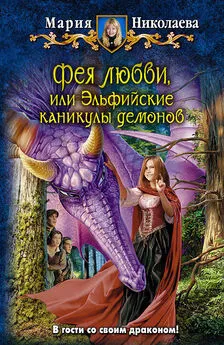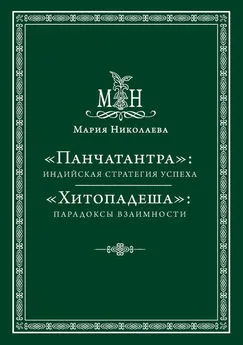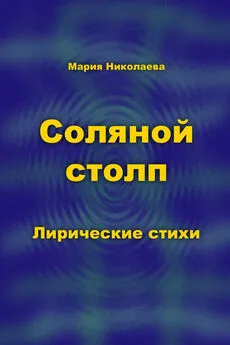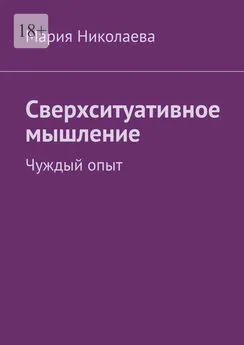Мария Николаева - Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли
- Название:Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Николаева - Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли краткое содержание
Книга продолжает традиции русской социальной философии, зародившиеся в начале прошлого века – в эпоху катастрофических изменений в стране, когда было необходимо найти онтологические основания в глубине самосознания народа в целом, не затрагиваемые политическими и социальными изменениями, но направляющими их в форме скрытой «всенародной воли». Основателем данного направления считается русский философ С. Л. Франк, для которого социальная философия была философией религиозной, а воля народа определялась Волей Божьей. Эпоха новых перемен потребовала расширить границы исследования не только в содержательном, но и в формальном плане.
В данной книге разработаны проблемы социальной философии как дисциплины, онтологически присущей структуре самого общества. Основная тема посвящена углублению вопроса о самоопределении человека по мере его воссоединения с всеобщностью как таковой, воплощенной в различных социальных условиях и сохраняющейся при смене социальных формаций. Вводятся термины, соответствующие отдельным этапам реальности, вступающей в силу; рассматриваются формирование понятия воли в западной культуре и восточные представления о субъективности межличностных сил; дается пример диалога между Западом и Востоком.
Для специалистов, работающих в областях истории философии, социальной психологии и сравнительного религиоведения, а также аспирантов гуманитарных вузов.
Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что касается определенного отношения воли и разума в ограниченном человеческом сознании, Гегель настаивает на несправедливости как заключения Декарта о преобладании воли над разумом, так и вывода Спинозы об их тождестве в качестве отдельных актов воления и идей, равно как и решения Канта о свободе произвола. Проследим развитие элементарного волевого отношения. Гегель высказывается вполне конкретно о принципиальном характере отношений господина и раба для построения системы волеопределения в процессе очищения влечений. Именно раболепствование есть объективная воля, погруженная в свой объект и в содержание своего состояния.
Может показаться, что господство предполагает большую развитость при меньшем стремлении к развитию, то есть именно раб соблюдает принципы иерархии, тогда как господин поступает бездумно, как это отмечают в отношениях доминирования среди животных. [104]Но положение правовых субъекта и объекта в общей картине оказывается относительным, поэтому подчеркивается необходимость понимания частного смысла субъективного и объективного в волении – господского и рабского – из контекста.
Не удивительно, что в гегелевском контексте «воля есть свободная воля только как мыслящий интеллект. Раб не мыслит себя. Это самосознание, постигающее себя посредством мышления как сущность и освобождающееся от случайного, составляет принцип права… Рабство относится к стадии перехода – к миру, в котором неправо еще есть право. Это неправовое деяние не только тех, кто обращает людей в рабство, но и самих рабов… Рабство есть пример отчуждения личности… Раб имеет абсолютное право освободиться». [105]
Но он сможет реализовать его, только отказавшись от положения господина, сохраняющего в себе сознание необходимости рабства. Гегель приводит две простейшие формы отношения воли к воле , где общая воля есть подлинное основание, на котором свобода обладает наличным бытием. Во-первых, это общее воление как внешнее обеим волям, но не имеющее самостоятельного существования, – сфера договора. Во-вторых, это общее воление как самостоятельное по отношению к обеим волям, хотя и происходящее из их собственной сущности – сфера любви.
В данном отношении также предварительно подчеркивается противоречивое отношение «я» к собственному телу: «Тело, поскольку оно есть непосредственное наличное бытие, не соответствует духу и должно быть взято духом во владение. Но для других я свободен в своем теле, каким я его непосредственно имею… Я могу уйти из своего существования в себя и сделать его внешним. Но это – моя воля, для другого я свободен лишь как свободный в наличном бытии». [106]
Сужая опосредование телом (присвоением собственного тела начинается процесс присвоения вообще) до незаметного, – а это сужение представляет собой процесс объединения волевых способностей, – устанавливают и переходят границу между личностями, где своя воля в качестве отчужденной есть вместе с тем другая воля. Любовь как «пунктирность» самосознания в непосредственной субстанциальности духа, будучи одновременно созданием и разрешением противоречия, не является проявлением сущности «Мы», но конструктивным определением «мы». Безусловно, гегелевская общая воля далека от приобретения характера «нашей» воли.
2. Смещение сферы воли от сути души к сущему человеку
Пересмотр системы волеопределения: альтернативные формы подавления и покорности; преодоление предопределенности смысла воли. Ницшеанство и марксизм; отражение новых веяний в русской мысли. Рикёр и Сартр: переобъяснение перелома. Дюркгейм и Тард: материализм в онтологии и психологизм в логике. Принуждение или подражание. Бог как социальная материя. Варианты феноменологий: Гуссерль, Шелер, Шарден. Потребность восстановить единство разума и воли. Экзистенционализм: сдавленность воли и призрачность господства. Повседневная онтология: техницизм и квантованность власти. Господство воли к воле над господином и рабом.
Какое бы применение ни отводилось воле, после установления Аристотелем ее существенной связи с разумом, это отношение не прерывалось ни в одном из последующих определений воли в практической философии. Независимость воли от разума для самоопределения появляется в проекте лишь после разрыва в однозначности понимания самого разума. Самосознание объявляется иллюзией, а бессознательное – некоторой более основательной реальностью, и понятие воли оказывается лишенным прежней области применения, требуя переосмысления в ином способе существования, обнаруженном новым переходным человеческим существом.
Трансформация устремленности, в свою очередь, увлекаемой в различных неизвестных направлениях, породила критику системы Гегеля со всевозможных позиций: богословской (Кьеркегор), материалистической (Фейербах), психологической (Фрейд), эволюционной (Дарвин), социологической (Маркс) и собственно волюнтаристической (Шопенгауэр и Ницше). Мы лишь бегло обозначим некоторые из указанных путей и подробнее остановимся на последнем.
Богословие Кьеркегора асоциально – он исключает переход к единству с Богом от «мы» познания через «Мы» общения: «Парадокс веры таков: единичный индивид определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту, а не наоборот… Само этическое является искушением, которое может удержать от исполнения воли Божьей». [107]Кьеркегор отрицает промежуточные ступени в иерархии отношений между сознанием и сверхсознанием. Однако для Фрейда отношения господина и раба безусловно присутствуют в абстрактных отношениях сознательного и бессознательного и воспроизводятся в конкретном общении психоаналитика и пациента. Нерасторжимость людей изначальна: общество на сознательном уровне и масса – на бессознательном. «В психической жизни человека всегда присутствует другой . Психология личности с самого начала является также и социальной психологией». [108]
Естественный отбор в его классической форме, идущей от Дарвина, не означает преимущества стремления к господству, если не считать социальную среду совершенно нестабильной: «Излишняя агрессивность не приносит пользы животному, также и когда индивидуум занимает крайне подчиненное положение. В стабильных условиях промежуточные варианты в популяции более приспособленные». [109]Некоторые коррективы вносит в данную модель выявленная психологами двойственность объекта-цели. «В ситуации установления субординационной иерархии пища для обезьян становится не только источником утоления голода; обладание ею символизирует доминантное положение. Если обезьяна, занимающая подчиненное положение, попытается завладеть пищей, она подвергнется нападению со стороны доминантной особи. Если ей удастся убедить начальника , что банан ей нужен не для самоутверждения, а просто для утоления голода, тот позволит ей съесть его». [110]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: