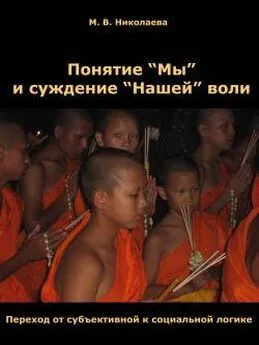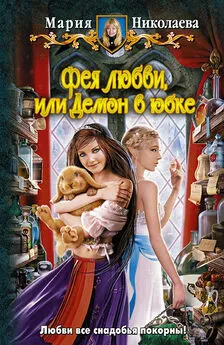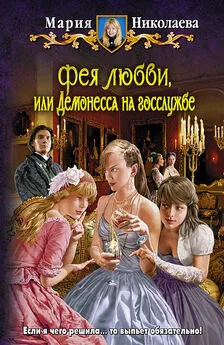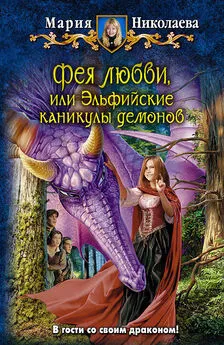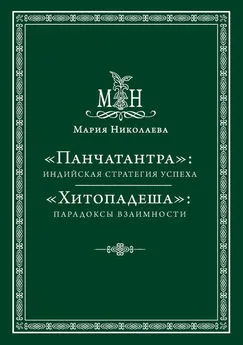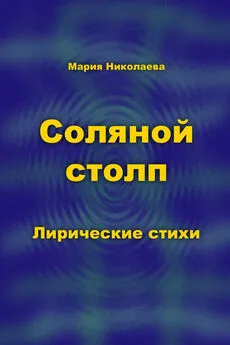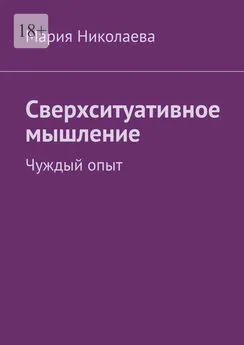Мария Николаева - Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли
- Название:Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Николаева - Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли краткое содержание
Книга продолжает традиции русской социальной философии, зародившиеся в начале прошлого века – в эпоху катастрофических изменений в стране, когда было необходимо найти онтологические основания в глубине самосознания народа в целом, не затрагиваемые политическими и социальными изменениями, но направляющими их в форме скрытой «всенародной воли». Основателем данного направления считается русский философ С. Л. Франк, для которого социальная философия была философией религиозной, а воля народа определялась Волей Божьей. Эпоха новых перемен потребовала расширить границы исследования не только в содержательном, но и в формальном плане.
В данной книге разработаны проблемы социальной философии как дисциплины, онтологически присущей структуре самого общества. Основная тема посвящена углублению вопроса о самоопределении человека по мере его воссоединения с всеобщностью как таковой, воплощенной в различных социальных условиях и сохраняющейся при смене социальных формаций. Вводятся термины, соответствующие отдельным этапам реальности, вступающей в силу; рассматриваются формирование понятия воли в западной культуре и восточные представления о субъективности межличностных сил; дается пример диалога между Западом и Востоком.
Для специалистов, работающих в областях истории философии, социальной психологии и сравнительного религиоведения, а также аспирантов гуманитарных вузов.
Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В современной социальной психологии сложилась типология власти, основанная на различении производящих ее источников: принуждающая, вознаграждающая, легитимная, экспертная, информационная и референтная. При таком подходе важен не характер различия типов власти, а тот факт, что оно вообще проводится, равно как и отличие власти от влияния. Следующий фактор раскрепощает нормативность в самом ее определении: «Группа рассматривается как отношение индивид-индивид . Продолжив эту логику, надо было бы перейти к анализу межгрупповых отношений. Однако этого не происходит. Причина обрыва цепи индивид-группа-общество состоит в методологическом подходе с позиций индивидуализма». [209]
Социология отличается от социальной философии тем, что имеет дело с фактическими отношениями, а не мыслимыми. Следовательно, она не способна принимать во внимание еще не вполне воплотившиеся идеи, к которым относятся «Мы» и «наша» воля, находящиеся в проекте осуществления и понимания этого осуществления. Но поскольку понимание корректирует самое осуществление, постольку социальная философия практичнее социологии, и связующая их феноменология пребывает в рабочем состоянии, то есть не обладает завершенностью.
В нормативности влияния как сравнения себя с другими примечательна незастрахованность от ненормальности такого влияния, пока само сравнение не приобретает характер субъективности. Имеются две крайности: толпа и мистическое единство; а в проявлениях воли, соответственно: внушаемость и харизма. И здесь можно согласиться с предположением Сигеле, что воля имеет своих идиотов и своих гениев со всевозможными оттенками. В первом случае наблюдается ускоренное проявление феноменов. Сжатие и уплотнение времени коррелирует с умалением личной воли, но согласие на внушение вменяется в ответственность личности с целостной способностью воления: «В толпе, благодаря революции , происходит то же, что в частной жизни, благодаря эволюции.. . Нормальное я всегда переживает я ненормальное. Внушение может изменить индивидуальность, уменьшить волю до того, что нельзя будет сказать, существуют ли они, или нет ; но что они не умерли совершенно, доказывает то, что они впоследствии реагируют так, что поневоле является представление о раскаянии организма в совершении действий, противоречащих его нормальной природе». [210]
Законы древней Руси предупреждали личное раскаяние общей расплатой: за скрывшегося убийцу платили всей округой, – закон побуждал всякого быть миротворцем. Решая, возможна ли в наше время коллективная ответственность , также требуют рассмотрения мотивов преступления, то есть принимать во внимание целостное воление индивида кроме целостного воления толпы. В положительную совокупность воления органично могут входить проявления совершенно патологические, например, истерия – как посмертный протест организма, совершившего против своей воли поступок, которым он возмущен . В этом акте выхлестывает энергия медленно подавленной внушением воли или врасплох сдавленной воли в толпе. Сэкономленное время компенсируется своеобразным безвременьем напрасной уже манифестации личной силы воли.
Сравнительно разумными – сознательными предпосылками самосознания – оказываются первобытные продукты общей воли : в силу незаметности индивидуальных влияний , каждое может быть продолжительным в том случае, если идет навстречу стремлениям, действующим в общем духе народа. Таков естественноисторический, или «нормальный», процесс нормализации влияний. Но в нем есть свои отклонения. Дополнительным умалением личной воли оказывается культ воли как таковой . Если же обращение к самостоятельности самой воли носит не личный, а общий характер, тогда проявляется противоположная аномалия воления – харизма , объединяющая вне власти иерархии.
«Прагматическая философия хочет не только исключить познание из области воли и действия, но и подчинить его себе… Волюнтаристический принцип лежит в прагматической философии в понятии самой воли как способности свободного выбора между любыми мотивами… Прагматизм переходит в неограниченный индивидуализм». [211] – «Харизма является идеей, пронизывающей нас . Ее воображаемая и сложная природа мешает нам отреагировать на нее логически, и мы вынуждены испытывать ее влияние наподобие физической реальности. Власть является результатом харизмы . Теория харизмы постулирует силу , которая направлена изнутри вовне , от мира идей к миру реалий. Ей общества обязаны движением и стабильностью». [212]
Общества делятся на революционные и нормальные, что позволяет обратиться к поиску третьего пути между индивидом и коллективом, исключающего принуждение к соответствию в форме консенсуса, где « Я » индивидов в то же самое время выражает « Мы », которое является их деятельной основой . Что касается человеческой личности, как она упрочивается в безликом и лицемерном обществе и далее наличествует в функции современности в межличностном безвременном общении, то ее понятие находится в становлении, заданном рефлексией воли соответствующего типа.
Приведенному субстанциальному источнику межличностной вариативности вторит развитие теории личности в социальной психологии, хотя бы оно и не было явно обращено к целям саморазвития и даже почитало их за производные ве-личины . Наблюдается тенденция к расширению спектра социальной рефлексии личности – от стремления к превосходству нашего общества над самим собой (Адлер) через саморегулируемое изменение «власть – человеку» (Бандура) до признания потребности в самоактуализации (Маслоу) и феноменологической тенденции к актуализации (Роджерс). [213]
Дистанцирование волевой рефлексии от самой себя обретает в каждой примеренной модели новую глубину мысли о воле. Так, для Адлера стремление к власти представляется в три этапа: быть агрессивным, могущественным, недосягаемым; для Маслоу самоактуализация есть желание человека стать тем, кем он может стать , и встречается довольно редко; для Роджерса она подразумевает повышение напряжения и не является конечным состоянием совершенства, – ни один человек не становится самоактуализированным настолько, чтобы отбросить все мотивы.
Снисходя до рассмотрения самого безблагодатного межличностного отношения – агрессии, мы обнаруживаем некое волевое состояние как обязательную составляющую поступка с преобладанием в ней действительности. [214]Статус конкретного социального факта придается скорее воле к поступку, чем самому поступку, – воле к общению, чем самому общению, – «нашей» воле к взаимодействию, чем общей воле к обустройству мира (ибо первое всегда определяет последнее); тогда как статус социального факта вообще – наоборот, происшествию. Понятие мира внутреннего раскрывается полнее представлений о мире внешнем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: