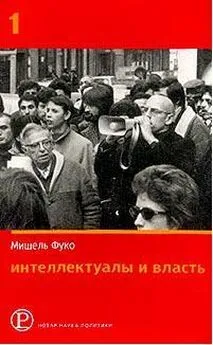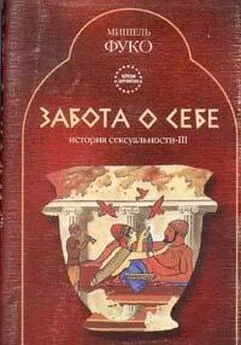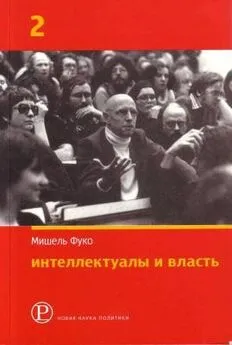Мишель Фуко - Воля к истине - по ту сторону знания, власти и сексуальности
- Название:Воля к истине - по ту сторону знания, власти и сексуальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Фуко - Воля к истине - по ту сторону знания, власти и сексуальности краткое содержание
Воля к истине - по ту сторону знания, власти и сексуальности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
24
для нас невыносима; если мы и допускаем ее, то толь ко в виде загадки. Функция "автор" в наши дни вполне применима лишь к литературным произведениям.
{i}(Конечно же, все это следовало бы продумать более тонко: с какого-то времени критика стала обращаться с произведениями соответственно их жанру и типу, по встречающимся в них повторяющимся элементам, в соответствии с присущими им вариациями вокруг некоего инварианта, которым больше уже не является индивидуальный творец. Точно так же, если в математике ссылка на автора есть уже не более чем способ дать имя теоремам или совокупностям положений, то в биологии и медицине указание на автора и на время его работы играет совсем иную роль: это не просто способ указать источник, это так же способ дать определенный индикатор "надежности", сообщая о техниках и объектах эксперимента, которые использовались в соответствую эпоху и в определенной лаборатории.){/i}
Теперь третья характеристика этой функции-автор. Она не образуется спонтанно как просто атрибуция некоторого дискурса некоему индивиду. Фикция эта является результатом сложной операции, которая конструирует некое разумное существо, которое и называют автором. Несомненно, этому разумному существу пытаются придать статус реальности: это в индивиде, мол, находится некая "глубинная" инстанция, "творческая" сила, некий "проект", изначальное место письма. Но на самом деле то, что в индивиде обозначается как автор (или то, что делает некоего индивида автором), есть не более чем проекция в терминах всегда более или менее психологизирующих - некоторой обработки, которой подвергают тексты: сближений, которые производят, черт, которые устанавливают как существенные, связей преемственности, которые допускают, или исключе
25
ний, которые практикуют. Все эти операции варьируют в зависимости от эпохи и типа дискурса. "Философского автора" конструируют не так, как "поэта"; и автора романного произведения в XVIII веке конструировали не так, как в наши дни. Однако поверх времени можно обнаружить некий инвариант в правилах конструирования автора.
Мне, например, кажется, что способ, каким литературная критика в течение долгого времени определяла автора - или, скорее, конструировала форму-автор исходя из существующих текстов и дискурсов,- что способ этот является достаточно прямым производным того способа, которым христианская традиция удостоверяла (или, наоборот, отрицала) подлинность текстов, которыми она располагала. Другими словами, чтобы "обнаружить" автора в произведении, современная критика использует схемы, весьма близкие к христианской экзегезе, когда последняя хотела доказать ценность текста через святость автора. В De viris illustribus святой Иероним поясняет, что в случае многих произведений омонимии недостаточно, чтобы законным образом идентифицировать авторов: различные индивиды могли носить одно и то же имя, или кто-то один мог - умышленно - заимствовать патроним другого. Имени как индивидуальной метки недостаточно, когда имеют дело с текстуальной традицией. Как в таком случае приписать различные тексты одному и тому же автору? Как привести в действие функцию-автор, чтобы узнать, имеешь ли дело с одним или же с несколькими индивидами? Святой Иероним дает четыре критерия: если среди нескольких книг, приписываемых одному автору, одна уступает другим, то ее следует изъять из списка его произведений (автор определяется здесь как некоторый постоянный уровень ценности); и то же самое если некоторые тексты находятся в доктринальном
26
противоречии с остальными произведениями автора (здесь автор определяется как некоторое поле концептуальной или теоретической связности); нужно также исключить произведения, написанные в ином стиле, со словами и оборотами, обычно не встречающимися в том, что вышло из-под пера писателя (в этом случае автор - это стилистическое единство); наконец, следует рассматривать в качестве интерполированных тексты, которые относятся к событиям, происходившим уже после смерти автора, или упоминают персонажей, которые жили после его смерти (автор тогда есть определенный исторический момент и точка встречи некоторого числа событий). Так вот, и современная литературная критика, даже когда она не озабочена установлением подлинности (что является общим правилом), определяет автора не иначе: автор - это то, что позволяет объяснить присутствие в произведении определенных событий, так и различные их трансформации, деформации и модификации (и это - через биографию автора, установление его индивидуальной перспективы, анализ его социальной принадлежности или классовой позиции, раскрытие его фундаментального проекта). Равно как автор - это принцип некоторого единства письма, поскольку все различия должны быть редуцированы по крайней мере с помощью принципов эволюции, созревания или влияния. Автор - это еще и то, что позволяет преодолеть противоречия, которые могут обнаружиться в серии текстов: должна же там быть - на определенном уровне его мысли или его желания, его сознания или его бессознательного - некая точка, исходя из которой противоречия разрешаются благодаря тому, что несовместимые элементы наконец-то связываются друг с другом или организуются вокруг одного фундаментального или изначального противоречия. Автор, на
27
конец,- это некоторый очаг выражения, который равным образом обнаруживает себя в различных, более или менее завершенных формах: в произведениях, в черновиках, в письмах, во фрагментах и т.д. Те четыре модальности, соответственно которым современная критика приводит в действие функцию "автор", целиком укладываются в четыре критерия подлинности по святому Иерониму (критерии, которые представляются весьма недостаточными сегодняшним зкзегетам).
Но функция "автор" на самом деле не является просто-напросто реконструкцией, вторичным образом производимой над текстом, выступающим как инертный материал. Текст всегда в себе самом несет какое-то число знаков, отсылающих к автору. Эти знаки хорошо известны грамматикам - это личные местоимения, наречия времени и места, спряжение глаголов. Но следует заметить, что эти элементы выполняют неодинаковую роль в дискурсах, наделенных функцией "автор", и в тех, которые ее лишены. В случае последних подобного рода "передаточные звенья" отсылают к ному говорящему и к пространственно-временным координатам его дискурса (хотя тут возможны и определенные видоизменения, как например, в том случае, когда дискурсы приводятся в форме первого лица). В случае же первых их роль важнее и изменчивей. Хорошо известно, что в романе, который выступает как повествование рассказчика, местоимение первого лица, настоящее время изъявительного наклонения, знаки локализации никогда не отсылают в точности ни к писателю, ни к моменту, когда он пишет, ни к самому жесту его письма; они отсылают к некоторому alter еgо, причем между ним и писателем может быть более или менее значительная дистанция, изменяющаяся по мере самого развертывания произведения. Было бы равным образом неверно искать ав
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: