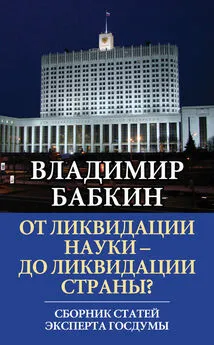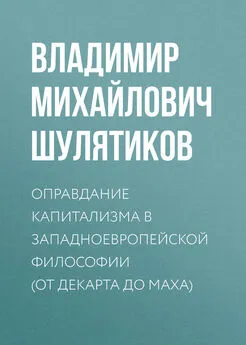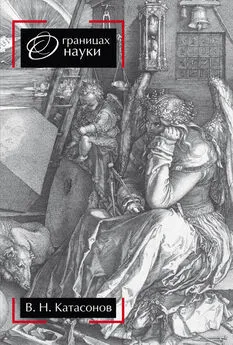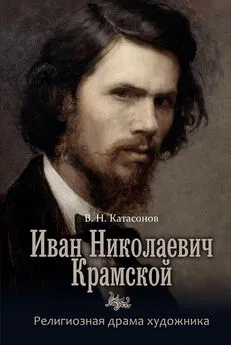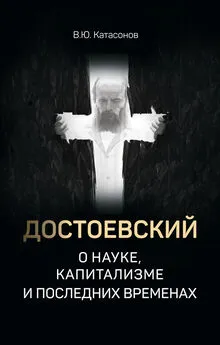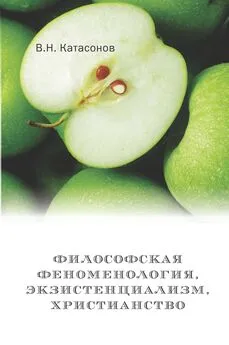Владимир Катасонов - Точность науки, строгость философии и откровенность религии
- Название:Точность науки, строгость философии и откровенность религии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Катасонов - Точность науки, строгость философии и откровенность религии краткое содержание
Точность науки, строгость философии и откровенность религии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть еще одна важнейшая философская тема, которая с необходимостью “вырастает” из обсуждения вопроса об измерении. Новое время ввело для измерения понятие действительного числа . Мы уже говорили выше, что античность признавала только целое число, сегодня же мы к ним добавили еще рациональные и иррациональные числа, другими словами для нас, в отличие от ученых древности, любой отрезок может быть измерен, ему может быть поставлено в соответствие число. Любопытно, что хотя подобный подход используется в науке уже с XVII века, тем не менее, строгая теория действительных чисел была построена только во второй половине XIX столетия (Дедекинд, Вейерштрасс, Кантор). Характерно, что эта теория существенно использует актуальную бесконечность . И тут встает важный принципиальный вопрос. Мы можем рассмотреть сколь угодно большое целое число; вместе с любым данным числом мы можем всегда указать и большее его; но имеем ли мы право оперировать со всем множеством целых чисел N= {1,2,3,...}, как с данным? Имеем ли мы право оперировать с актуально бесконечными множествами вообще?.. Уже в античной науке было осознано, что рассуждения с актуальной бесконечностью ведут к апориям, неразрешимым противоречиям. Так, знаменитые апории Зенона показывали, что если мы будем мыслить пространственный и временной континуум, как состоящие из бесконечного числа точек и мгновений, то возникают серьезные логические трудности: мы не можем понять ни как движение складывается из положений покоя (апория “Стрела”), ни как более быстрое тело догоняет более медленное (апория “Ахилл и черепаха”), ни вообще, как движение может начаться (апория “Дихотомия”). В математической теории актуально бесконечных множеств, так называемой теории множеств , построенной к концу XIX столетия, подобные парадоксы и апории также не замедлили появиться: “парадокс Рассела”, понятие “множество всех множеств”, дискуссии вокруг аксиомы выбора и т.д.
Противники теории множеств, ”финитисты”, настаивали, что человеческий разум не может использовать актуальную бесконечность, так как тогда он необходимо впадает в противоречие. Сторонники же теории множеств отвечали: конечно, мы не можем представить себе актуальную бесконечность, но из этого не следует, что она не существует или не обладает вполне определенными свойствами. Мы также не можем представить и больших чисел, например, «миллиард миллиардов”, но ведь на самом деле они же существуют... Также существует и актуальная бесконечность, ведь Бесконечный Разум, Бог, несомненно, созерцает все бесконечное множество чисел целиком. Этот любопытный аргумент для оправдания теории бесконечного использовал создатель теории множеств Г.Кантор, ссылаясь при этом на блаженного Августина [4] См. в моей книге: Катасонов В.Н. Боровшийся с бесконечным. Философско - религиозные аспекты генезиса теории множеств Г.Кантора. - М..1999. С.99 - 102.
. Последний писал: ”Итак, неужели Бог не знает всех чисел вследствие их бесконечности, и неужели ведение Божие простирается лишь на некоторую сумму, а остальные числа не знает? Кто даже из самых безрассудных людей скажет это?” [5] Блаженный Августин. О Граде Божием.Т.II,М.,1994. - С.269.
Любопытно, что наука, познание в своем развитии приходят к необходимости смотреть на вещи sub specie aeternitatis ― с точки зрения вечности, с точки зрения Бога. То есть, следовательно, они должны этого Бога в каком-то смысле предполагать... Пусть это еще не есть Бог “Авраама, Исаака и Якова”, а только лишь “Бог философов и ученых”, Мировой Разум, Логос, управляющий миром и содержащий в себе всю полноту законов мироздания, - тем не менее, оказывается, что даже для построения некоторых научных теорий требование их логической полноты приводит к идее Мирового Разума. Пусть ученый даже “не нуждается в гипотезе Бога”, однако сами по себе вопросы ― “Что такое полнота истины, к которой стремится наука?”, “Что такое Закон, правящий миром?” и, следовательно, “Существует ли Законодатель?” ― с необходимостью навязываются исследователю-философу, ищущему полноты логических условий [6] Хорошо известно, что подобным образом ставил вопрос о Боге в рамках своей философии естествознания Кант. См.:Кант И. Критика чистого разума. Трансцендентальная диалектика; глава “Идеал чистого разума”// Соч. в шести томах. Т.3. М., 1964. С.501-592.
научного познания.
Но не только осмысляя наше познание в науке, сферу теоретического разума, мы приходим в философии к идее Бога. Попытка осознания наших действий в области права, морали, нравственности ― в области практического разума ― также ведет нас к идее Божества. Правовые и моральные нормы предполагают всегда некоторые представления о нравственности, о том, что такое добро, благо. Размышление ведет нас далее к вопросу о природе добра. Есть ли добро лишь некоторая совокупность условно и, следовательно, произвольно выбранных положений и ценностей или же оно реально , т.е. соответствует некоторому действительному порядку вещей в мироздании? Если первое, если добро условно и номиналистично, то тогда трудно понять бросающуюся в глаза устойчивость моральных норм в истории. Несмотря на то, что нравы и обычаи людей разных эпох и обществ меняются, в главном они остаются тождественными. Кроме того, признание морали и добра чисто номиналистичными понятиями обессмыслило бы человеческую жизнь. Разом она бы потеряла свою духовную составляющую и вся свелась бы к чисто биологическим отправлениям. Не было бы никакого смысла отстаивать справедливое и благое, высокое и святое, если бы они не имели никакого онтологического значения... Однако опыт сердца, наша совесть , вся наша жизнь подсказывают нам, что это не так, что разделение на добро и зло как-то укоренено в самом бытии. Что “царство ценностей”, “царство добра” есть не просто слова, а обозначение некоторой реальности, опознаваемой в нравственной жизни личности. Что через нашу совесть говорит Самосущее Добро, Бог, являющийся Законодателем всей нашей нравственной жизни. Конечно, философия не может доказать это положительно и неопровержимо, но своим анализом, своим тщательным “прощупыванием” логических связей она ясно показывает, что без предпосылки реальности Блага вся наша нравственная жизнь становится эфемерной, и вся наша жизнь вообще начинает тогда казаться какой-то бесконечно злой насмешкой над человеком...
Важно подчеркнуть еще один характерный момент философии: философия в своем дискурсе широко использует обыденный язык . Конечно, и в философии строятся системы, которые определяют и вводят свои специальные термины . Однако истинная философия должна быть открытой , скорее философствованием , чем системостроительством. После построения системы философу остается только одно ― переинтерпретация всего человеческого опыта в терминах своей философии. В процессе этой переинтерпретации смысл реальности обычно насилуется; все, не поддающееся истолкованию в терминах предвзятой философской номенклатуры обычно объявляется второстепенным (“вторичные качества”), чисто феноменальным, а то, и совсем не существующим... Эта догматическая установка враждебна самому духу философии, которая по своей природе есть всегда лишь стремление к мудрости, а не обладание ей... В этом смысле философия всегда чутко прислушивается к языку как к универсальному хранилищу общечеловеческого опыта. Именно здесь, в живом организме народного языка, во всей полноте его бытования, от сакральных формул богослужения до условных оборотов научного дискурса, от высокой поэзии до бытовой прозы, фиксируется и сохраняется факт встречи мысли и бытия, намечаются все возможные смыслы истолкования этой встречи, во всей полноте своих оттенков и градаций... Парадоксальным образом, этот сырой и необработанный “бытовой” язык позволяет философу глубже продвинуть анализ нашего познания, выразить смысл познавательных процедур более строго , чем это делается в науке. Строгость мышления , которой взыскует философия, и есть это стремление представить каждый объект мысли на фоне бесконечно разнообразных возможностей другого , так чтобы строго очерченный “логический контур” этого предмета ясно выступил во всей своей определенности и специфичности... Эти две связанные черты остаются, в главном, инвариантными для философии всех времен, составляют как-бы канон философии: стремление к строгости определения, неразрывно связанное с осознанием всей беспредельности возможного. В первом смысле философия стремится к строгим определениям, во втором ― остается бесконечным вопрошанием... И всегда остается “посередине”: философия не знает ни своих “начал”, ни своих “концов”. Философия всегда как-бы руководствуется максимой Паскаля: “Величие человека в том, чтобы держаться середины” [7] См.: Паскаль Б. Мысли. С.-П., 1999. С.106-110. Сравни также у Хайдеггера: “...Вопрошание есть благочестие мысли” (Вопрос о технике. С.66 // Новая технократическая волна на Западе. М. Прогресс. 1986. С.45-66).
.
Интервал:
Закладка: