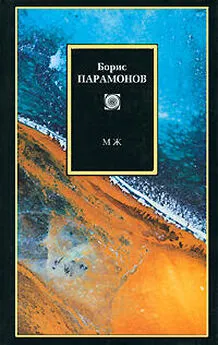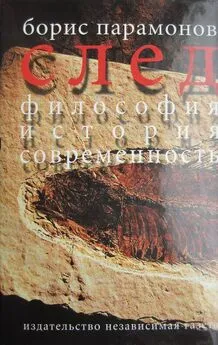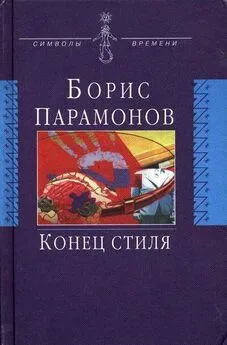Борис Парамонов - МЖ: Мужчины и женщины
- Название:МЖ: Мужчины и женщины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2010
- Город:M.
- ISBN:978-5-17-060349-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - МЖ: Мужчины и женщины краткое содержание
Борис Михайлович Парамонов (р. в 1937 г. в Ленинграде, в 1978 г. уехал на Запад) – видный современный философ, публицист, правозащитник Русского Зарубежья, ведущий одной из самых популярных программ «Радио Свобода» – «Русские вопросы», автор четырех книг и множества статей.
В своем сборнике эссе «Мужчины и женщины» Борис Парамонов, серьезно и вдумчиво, без тени дешевой сенсационности анализирующий гомосексуальные подтексты многих произведений литературы и искусства России и СССР, говорит о вдохновении и сублимации, моральном и этическом поиске и творческом вдохновении, стоящем выше узости, ханжества и догматизма.
МЖ: Мужчины и женщины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.
В современных терминах, Пастернак – «зеленый».
Мы должны, однако, помнить, что Пастернак принял не только «лето семнадцатого года», но и его осень. Говорить о лояльности Пастернака к большевизму не приходится, потому что тут было нечто большее и значительнейшее. Я бы сказал, что было видение самого большевизма в женском образе. Тут и делается понятной тема женского бунта у Пастернака, тема революции как восстания поруганной женственности.
Здесь нужно привести одно место из «Охранной грамоты»: «…весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок… первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан… раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц».
Итак, тема женщины, образ женщины связываются у Пастернака с темой и образом неволи, насилия. Место, в которое помещена женщина, – зоологический сад, место укрощения зверей, вызывающего (ницшеанский) образ плетки: образ, который будет вытесняться отрицанием романтической позы поэта-сверхчеловека. Естественно, ситуация насилия вызывает также представление о крови; но здесь же возникает обратное представление о естественной связи женского начала с кровью. И тут нам не может не вспомниться соответствующая глава из «Детства Люверс». Возникновение женщины в девочке, любовницы в женщине и матери в ней – все это положения, в которых естественен и закономерен образ крови. Отношение к женщине у Пастернака приобретает амбивалентную окраску, когда насилие и кровь воспринимаются условием самого женского существования и в то же время – мотивировкой бунта. Несомненно, в этом пастернаковском «комплексе» мы встречаемся – уж коли говорить в психоаналитических терминах – с вытесненным садизмом, прорывающимся в неожиданном у этого поэта сочувствии к кровавой революции. Здесь – и только здесь – следует искать объяснение поразившего Л. Флейшмана факта: чуть ли не отождествления в «Спекторском» Марии Ильиной – с Лениным. (Л. Флейшман: «Эта кощунственная «идентификация» Цветаевой с лидером революции родственна операции отождествления в «Повести» 1929 г. революции с «женским» началом. Более того – это отвечает принципиальной уверенности Пастернака в совпадении полюсов в условиях революционной стихии».)
В том-то и дело, что не только выдуманную Марию Ильину идентифицирует Пастернак с Лениным, но и самого себя – со Сталиным. Это упоминавшееся стихотворение «Мне по душе строптивый норов…» в полном его варианте. Интересно, что идентификация идет как некое «примирение противоречий», «единство противоположностей», дающее в сумме образ целостного бытия. Примиряются «предельно крайние» два начала, причем сам поэт берется как «женская» ипостась искомой целостности, в пассивной роли уже дважды (в теоретической статье и в другом стихотворении) упоминавшейся «губки»: «И этим гением поступка / Так поглощен другой поэт, / Что тяжелеет, словно губка, / Любою из его примет». Сталин – активное, «мужское» начало, «фонтан», если вспомнить статью «Несколько положений», а «другой поэт» выступает как «женщина», он «тяжелеет», беременеет от «гения поступка». Истинен – для Пастернака – образ революции только в этом единстве: революция как беременность и – необходимо кровавые – роды.
Это идеальный, точнее сказать – чаемый исход революции, долженствующей привести к некоему мистическому зачатью и к рождению, единство мужского и женского, красного и белого: кровь на снегу в «Докторе Живаго», сильно педалированная в сцене разгона демонстрации, или в том же романе – образ рябины в сахаре, которая оказывается в другом месте шариками свернувшейся крови Антипова на снегу. Как видим, примеры опровергают друг друга, и это свидетельствует об амбивалентном отношении Пастернака к революции, то мнящейся прекрасной женщиной, то оборачивающейся картиной смерти.
Подчас даже революция разворачивается у Пастернака не как восстание женщины, а как окончательное ее укрощение, в пределе – насильственная смерть. Этот мифический первообраз всплыл в приписке Пастернака к коллективному письму писателей к Сталину с выражением сочувствия по поводу смерти его жены. М. Коряков, введший в оборот этот документ («Новый журнал», № 55, 1958), совершенно прав, усмотрев здесь причину сохранения жизни Пастернаку: Сталин его мистически испугался. Нужно, однако, воспроизвести здесь эту приписку:
Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник – впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. БОРИС ПАСТЕРНАК.
Природу этого страха можно понять опять же в свете вышесказанного: Пастернак, связывавший с женщиной революцию, но амбивалентно трактовавший ее и как бунт против насилия, и как само насилие, увидел в Сталине – «убийце революции» – просто-напросто убийцу своей жены. «Увидел» – конечно, не то слово: он, в собственной тайной глубине носивший подобные образы, об этом бессознательно догадался, а Сталин бессознательно же догадался об этой догадке Пастернака.
В этой кремлевской сцене Пастернак, как страсть и свидетель, сидел в углу.
Аналитическое усилие приводит нас к пониманию, что такие и подобные положения не столько отвращали Пастернака от революции, сколько привлекали к ней. Отказ, разрыв и вытеснение всех этих садомазохистских образов происходили на поверхности литературной жизни, на мелях групповой полемики, примером которой и выступает нежелание Пастернака считаться романтическим поэтом. Это не столько преодоление внутреннего конфликта, сколько простое указание на него. В глубине как раз в эти годы (начало тридцатых, к которому относится смерть Н. Аллилуевой) шло «второе рождение» как попытка нового приятия революции и ее сиюминутной практики. Пастернак не был бы собой, если б этот процесс не связался у него с новым эротическим сдвигом («сдвиг» я тут призываю понимать в смысле пастернаковской формулы об искусстве как записи бытия, смещенного чувством). Понятно, что имеется в виду роман поэта с его будущей второй женой З.Н. Ереминой-Нейгауз. Но и в воспоминаниях Ю. Кроткова, трактующих этот сюжет, и в ныне опубликованных мемуарах самой З.Н. Пастернак мы наталкиваемся опять же на эту тему: поруганной девственности, оскорбленной, взыскующей мщения невинности. Эта тема мощно прозвучала в финале стихотворения «Весеннею порою льда…», завершающего книгу «Второе рождение», – и она же легла в основу линии Лары – Комаровского в «Докторе Живаго».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: