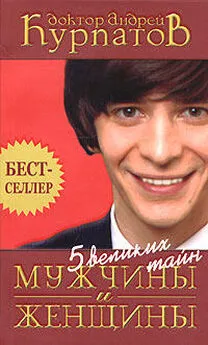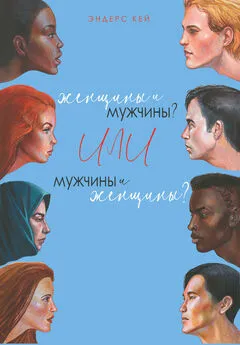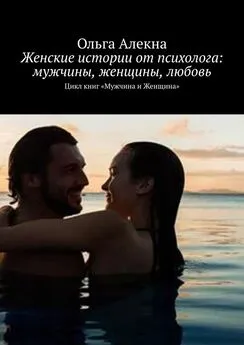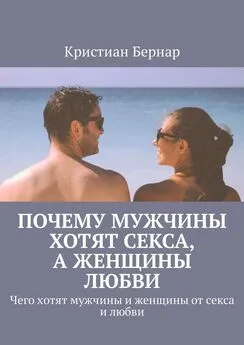Борис Парамонов - МЖ: Мужчины и женщины
- Название:МЖ: Мужчины и женщины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2010
- Город:M.
- ISBN:978-5-17-060349-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - МЖ: Мужчины и женщины краткое содержание
Борис Михайлович Парамонов (р. в 1937 г. в Ленинграде, в 1978 г. уехал на Запад) – видный современный философ, публицист, правозащитник Русского Зарубежья, ведущий одной из самых популярных программ «Радио Свобода» – «Русские вопросы», автор четырех книг и множества статей.
В своем сборнике эссе «Мужчины и женщины» Борис Парамонов, серьезно и вдумчиво, без тени дешевой сенсационности анализирующий гомосексуальные подтексты многих произведений литературы и искусства России и СССР, говорит о вдохновении и сублимации, моральном и этическом поиске и творческом вдохновении, стоящем выше узости, ханжества и догматизма.
МЖ: Мужчины и женщины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В революции заговорила стихия, а Гинц и прочие агитаторы эту стихию портят. Они не понимают тайного мотива революции – не из оков данной формы правления вырваться, а из культуры. Мы и не вправе требовать от них этого понимания.
Зато это очень хорошо понимали такие люди, как Розанов, Блок. Понимал и Пастернак. В этом понимании он выступил как самый настоящий славянофил, ибо предпочтение природы, стихии культуре – первый признак славянофильства.
Вопрос осложняется тем, что понимать под культурой.
Западник в оппозиции «стихия – культура», установленной Розановым и усвоенной Блоком, естественно, выберет второй член. И все получается очень логично, только почему-то при этом забывается, что Розанов – гений.
Проблему сильно запутывает сам термин «славянофильство». Ведь в идейном течении, известном под таким названием, главное не в противопоставлении хороших русских нехорошим нерусским, а противопоставление плоскостной культуре религиозной глубины и полноты. В этом смысле иудей Лев Шестов – самый настоящий славянофил.
Славянофильство – отнюдь не только то, что писали Хомяков, Киреевский, Аксаковы и Юрий Самарин. Главными славянофилами в России были не партийные идеологи, а великие писатели. Славянофильство – мировоззрение гениев, индивидуализированных ликов бытия. Та культура, которая отвергалась славянофилами, была (и остается) культурой нивелирующей, культурой общего смысла, то есть рационалистической. Она родила науку – мировоззрение, не индивидуализирующее бытие, а генерализирующее его. О прочих грехах науки говорить сейчас не будем.
Чтобы нерусским не было обидно, напомню, что славянофильство – явление типологически совершенно сходное с немецким романтизмом (да во многом от него и пошедшее): идею художественной культуры – в противовес научной – первыми высказали именно романтики. У них же дана апология гения, гениального творчества как истинной модели бытия. Да можно даже и Канта вспомнить, разводившего науку и гений как раз потому, что науке можно обучить любого.
Была ли ошибка у славянофилов? Да, была. Россия в их построениях стилизована, в ее прошлом виделась осуществленной ее будущая задача. Славянофильство было ретроспективным, а его истина – проективна. Создание индивидуализированного стиля во всей толще культуры (а не только в художественном творчестве) – еще не решенная задача, и трудно сказать, как она будет решаться.
Культура должна быть локальной, провинциальной, рустичной. Стиль ампир – не лучший из стилей.
Так что центр, идея славянофильства – отнюдь не в русском национализме, а, если хотите, в любом, в выделении и осознании самой проблемы локальной культуры.
Пастернак – настоящий, убежденный провинциал. Образец бытия для него – уезд в тылу. Языком провинциала приводит он мир в строй и ясность.
Люблю вас, старинные пристани,
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Неудачу революции Пастернак видит в том, что она не нашла своего языка, усвоила чуждый ей, стихии, язык городской культуры. Ведь как заговорил зыбушинский глухонемой?
Он оказался вполне современным молодым человеком, выучившимся у передовых дефектологов читать с губ. При этом оказывается, что он придерживается крайне левых взглядов и считает, что революцию следует углублять.
Чудо подменено прогрессом, хоры ангелов – граммофоном, Валаамова ослица – воспитанником школы Гартмана и Остроградского.
Клинцов-Погоревших – колоссальная, вечная удача Пастернака-прозаика. Школьники свободной России будут изучать его вместе с Чичиковым и Обломовым.
Клинцов-Погоревших, заговоривший по науке глухонемой, – архетип большевизма. Большевизм так же народен, как этот чревовещатель. Народная мечта, легенда, миф – жутко спародированы в большевизме.
Но он все-таки сумел овладеть революцией, овладеть народом, потому что сам народ, как выяснилось, сильно охоч до граммофонов.
Пятая часть романа кончается тем, что в поезде, на подъезде к Москве, даровитый глухонемой наделяет доктора подстреленной им на охоте уткой – той самой, что потом была съедена на Тайной вечере в московском доме Живаго. Утка завернута в обрывок какого-то печатного воззвания.
– Жене! Жене! В подарок жене, – радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые, и стал дергаться всем телом и хохотать…
Этот бесноватый не знает в жизни самого главного. «Жена» – знак этого самого главного: будни, быт, дом, повседневная забота, проза, поэзия.
Страницей раньше написано следующее:
Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним.
Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары – все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство – приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования.
В книге Ивинской приводится отзыв о романе поэта Сергея Спасского, со словами о том, что в жизни топка печей и замазывание окон на зиму интереснее и важнее стратегии и тактики революции. Собственно, этими словами Спасский выразил основной смысл романа. Разговоры, которые Живаго ведет на эти темы с прозектором, следует назвать эпическими.
Пастернак воспроизводит в подобных местах вторую и главную тему из Розанова: святость быта, частной жизни, домашнего очага, деторождения.
Дневник Живаго в части девятой «Варыкино» полон этими темами. Происходит апология так называемого мещанства. Апелляция идет непосредственно к Пушкину. Пастернак, как и Пушкин, унизился до смиренной прозы.
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой.
Вспомним, что эти стихи, как важнейшие у Пушкина, как завет его русской литературе и набросок ее проекта, цитировал Страхов, самый, пожалуй, обстоятельный из славянофильских теоретиков. Славянофильство, за пределами выдуманной темы национального приоритета, ничего и не имеет в виду, кроме этой апелляции к органическому быту как последней инстанции, как месту истины.
Страхов в трех томах «Борьбы с Западом в русской литературе», в статьях о Тургеневе и Толстом дал ту же трактовку тенденций новой культуры, которую, уже как итоговый ее результат, сформулировали Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике Просвещения». Прочитав эту книгу, невозможно говорить, что в ужасах коммунизма виновна русская национальная традиция.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: