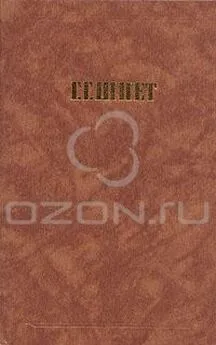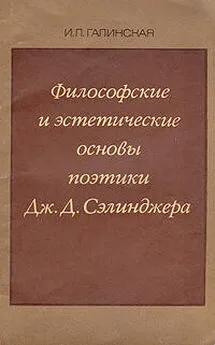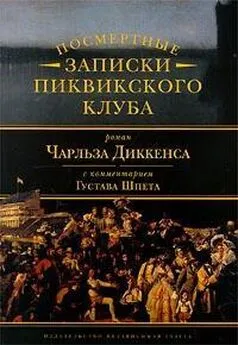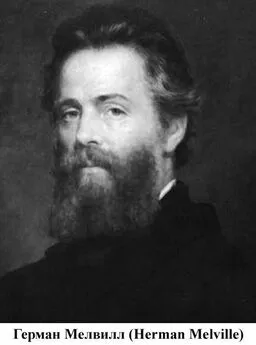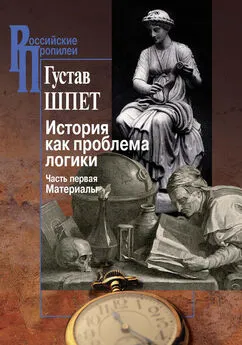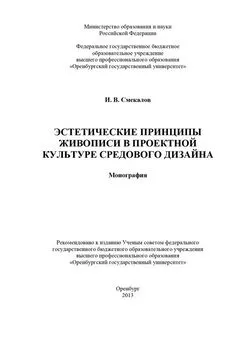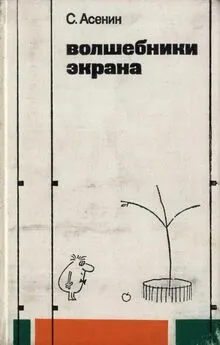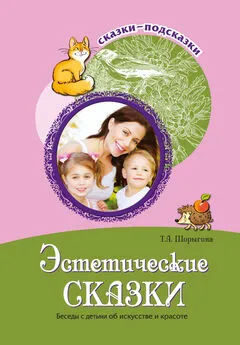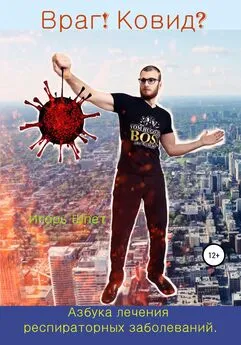Густав Шпет - Эстетические фрагменты
- Название:Эстетические фрагменты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Густав Шпет - Эстетические фрагменты краткое содержание
Выдающийся русский философ Г.Г.Шпет в начале 1920-х годов заинтересовался проблемами эстетики и посвятил им свои замечательные «Эстетические фрагменты», открывающие его многолетние размышления над сущностью человеческого бытия и познания. Для лингвистов наиболее интересной является публикуемая вторая часть «Эстетических фрагментов», отражающая взгляды автора на различные проблемы философии языка, семиотики, лингвогенеза, логического анализа языка, семасиологии, психолингвистики (в частности, на проблему рецепции и понимания речи). Г.Г.Шпет наиболее подробно рассматривает вопросы структурирования языкового знака, соотношения значения и смысла, взаимосвязи слова и культуры, места чувственного впечатления в смысловой структуре слова; привлекает обширный теоретический и языковой материал, предлагает свою интерпретацию взглядов В. фон Гумбольдта, Г.В.Лейбница, а также А.Марти, особенное влияние которого сказывается на терминологии работы Г.Г.Шпета.
Книга предназначена лингвистам, философам, психологам, культурологам, а также преподавателям, студентам и аспирантам гуманитарных вузов и всем заинтересованным читателям.
Из книги Г. Г. Шпет. Сочинения, Москва, изд-во «Правда», 1989
Эстетические фрагменты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не имея положительных эстетических качеств, морфемы могут, однако, играть роль в складывающемся эстетическом впечатлении отрицательную. Так, резкое нарушение привычных форм может служить препятствием к непосредственному положительному эстетическому восприятию. «Сткло», усеченные причастия в стихе — не только неблагозвучны, но также нарушают привычный для нашего времени склад формы, как и, например, «ненастроенный рояль» для того, кто привык говорить «ненастроенная», и т. п. Этим эстетически неприятно нарушается не только стиль или синтаксис, но и непосредственное слуховое впечатление привычных «форм сочетания». Именно потому, что здесь имеет место нарушение привычки и знакомости, незначительные, нерезкие уклонения от «нормы» могут отраженным путем играть роль, наоборот, приятного возбудителя, подобно тому, атак ее играют некоторые отступления от привычного произношения.
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
сердечный трепет
Произведут в груди моей.
Некоторые морфологические архаизмы или провинциализмы, независимо от присущей им от «неупотребления» свежести внутренних поэтических форм, могут нарушать или возбуждать эстетическое впечатление.
Условимся обозначать роль морфем в эстетическом восприятии символом:.
В неопределенно широком обозначении все отношения, которые конструируются между внешними формами сочетания и смыслом слова в его «естественной» онтологической конституции, располагаются как область внутренних форм. Состав их, однако, разнороден, и сюда укладываются, с одной стороны, формы логические, а с другой, внутренние поэтические; к тем и другим могут примкнуть — в зависимости от определения их по основанию или действию — формы синтаксические и предметно-стилистические (не субъективно-экспрессивные). Поскольку внешние синтаксические приметы совпадают с морфологическими отличиями, об них особо говорить не приходится — их эстетическое значение исчерпывается значением последних. Наличность же открытого сознания их, как выполнение синтаксического канона или отступления от него, делает их уже формами внутренними, и в таком случае методологически, совершенно правомерно рассматривать их как формы поэтические (формы поэтики).
Наипростейшее проявление внутренней формы есть логическая форма или схема, как отображение предметных (онтических) отношений или даже как их преображение, но существенно находящее себе онтический коррелят. Совершенно наглядно наличность этих форм обнаруживается при сравнении строгой, щепетильной и даже педантической научной речи с житейскою «презренной прозой». Не столько предопределенность логических форм онтическими — что, в конце концов, для самого определения все-таки остается задачею, — сколько условное соглашение простой номинации или номенклатуры отличает логическую речь как речь терминированную. Напротив, формы изложения, «рассуждения», «доказательства» и пр., которые принято называть методологическими, суть своего рода логические алгоритмы, отображающие скорее смысловые идейные отношения, чем собственно и элементарно онтологические. Отсюда — их противопоставление по их материальности или трансцендентальности чистым онтологическим формам. Все они существенно идеальны и «преодолевают» вещную и чувственно-феноменальную данность. Их «образование» сознается и формулируется как «закон».
Сами по себе, при закономерности и стройности их образования, эти внутренние идеальные отношения, дающие впечатление ясности и раздельности, вызывают своеобразное чувство интеллектуального наслаждения, а не чисто эстетического, «чувственного». Здесь чувствуется, требуется и вызывается известная как бы «подтянутость» ума, а не возбуждение и напряжение чувства. Это — как бы логическая удовлетворенность, спокойствие логической совести. Поэтому при соблюдении речью логических законов, подобно тому как и при ненарушении морфологических и синтаксических привычек, наблюдается в их восприятии простое спокойствие, равновесие, но не положительная прибавка к эстетическому чувству.
Случаи суппозиции, игра омонимов и синонимов, некоторые силлогистические приемы (например, рогатые силлогизмы) и т. п. при введении их в рассуждение привлекают внимание и потому, может казаться, вызывают и чувствования положительного качества. Но любопытно, что в логике именно эти случаи связаны как раз с учением о «логических ошибках», и главный их источник — в «игре словами», в «каламбуре», каковые формы правильнее уже относить к поэтическим внутренним формам. И действительно, в научном изложении это — уроды, «софизмы», в поэзии это необходимая принадлежность некоторых литературных форм — комизм, остроумие, и т. п. — и прием для некоторых авторов излюбленный (например, у Ф. Сологуба, ср. «ножи давилки» и т. п.). Здесь всегда — «переплетение», «игра» между формами чувственного восприятия звукослова и идеальными логическими формами. Логика этого не любит. Все учение о суппозиции, положительно разрешающее «планы» предметности, «отнесенность», интенции (primae, secundae), имеет предупреждающее и запретительное значение: не смешивать понятия (слова) о предмете (о «вещи») с понятием о понятии (словом о слове) как предмете («идее»).
Но если логическое спокойствие не есть положительный действующий фактор (causa efficiens) эстетического возбуждения, а только пассивное условие, то — как и в морфологической планомерности — нарушение равновесия может вызвать эстетически отрицательную реакцию. Логически-синтаксическая неясность, например, выражения «тьмы низких истин мне дороже…» — как бы ожидаем «чего?» или «чем что?» — «нас возвышающий обман», вызывает потерю равновесия и переворот в установке сознания — затрата, эстетически не вознаграждаемая, а скорее как-то осаживающая общее течение эстетического переживания. Стоит восстановить логическое равновесие, понять фразу, и она и эстетически проходит глаже. Но, как сказано, следует отличать интеллектуальное чувство и его удовлетворение или неудовлетворение от собственно эстетического. Например, «субъект определяет объект» — логически двусмысленно, эстетически — может быть вне оценки. Можно было бы ввести какой-нибудь синтаксический знак, например, порядок слов, который устранил бы двусмысленность, или просто сказать: «объект определяется субъектом», resp. «субъект определяется объектом». Но и в таком виде эта апоффегма [5] [За фертографию этого слова автор на себя ответственности не берет.]
может довести логически дисциплинированный ум до состояния глубокой меланхолии: «субъект» — эмпирический или чистый? — «определяется» — логически, причинно, функционально? — «объект» — материальный, осуществленный, как цель, как причина? и т. д. Сколько сочетаний, столько недоразумений — но именно недоразумений, т. е. интеллектуальных преткновений, а не эстетических.
Интервал:
Закладка: