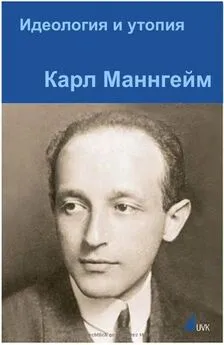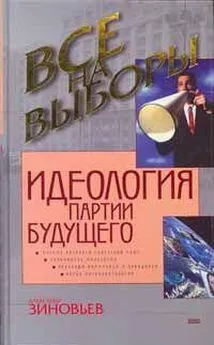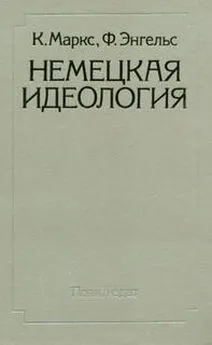Карл Маннгейм - Идеология и утопия
- Название:Идеология и утопия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Маннгейм - Идеология и утопия краткое содержание
Идеология и утопия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Неверно было бы утверждать, что отношения между этими элементами менее ясны и не столь доступны точному восприятию, как отношения между полностью измеряемыми феноменами. Напротив, взаимозависимость элементов, составляющих какое – либо событие, значительно более доступ на нашему внутреннему пониманию, чем взаимозависимость чисто внешних формализованных элементов. Здесь вступает в силу тот подход, который, следуя Дильтею, я хотел бы определить как осмысление «исконной жизненной связи» методом понимания10. При таком подходе сразу же становится очевидным факт взаимного функционального проникновения психических переживаний и социальной ситуации. Здесь мы соприкасаемся с той сферой жизни, где возникновение внутренних психических реакций становится очевидным фактом, и объяснить их так, как объясняется простая внешняя причинность, – в зависимости от степени вероятности их частой повторяемости – невозможно.
Обратимся к ряду наблюдений, разработанных в социологии посредством метода понимания, и рассмотрим их научное значение. Если при изучении этики ранних христианских общин одни утверждали, что ее корни следует прежде всего искать в возмущении угнетенных слоев общества, а другие добавляли, что эта этическая направленность была совершенно лишена политической окраски, поскольку она соответствовала сознанию того общественного слоя, который еще не проявил никакого реального стремления к господству («Отдавайте кесарево кесарю»); и если затем утверждалось, что эта этика является не племенной этикой, а этикой в мировом масштабе, поскольку она возникла на почве уже распавшейся племенной структуры Римской империи, то совершенно ясно, что подобные взаимосвязи между социальной ситуацией, с одной стороны, и психоэтическим типом поведения – с другой, не будучи измеряемыми, тем не менее допускают значительно более интенсивное проникновение в их сущность, чем это может быть достигнуто посредством установления коэффициентов корреляции между различными факторами. Эти взаимосвязи стали очевидны потому, что в своем подходе к исконной взаимозависимости событий, из которых возникли эти нормы, мы использовали метод понимания.
Таким образом, основные социологические положения не являются ни механистически внешними, ни формальными и представляют собой не чисто количественные корреляции, а определения ситуаций, в которых мы в общем пользуемся конкретными понятиями и моделями мышления, очень близкими тем, которые созданы в повседневной жизни для практических целей. Очевидно таки, что все социологические определения тесно связаны с оценочным суждением и бессознательной ориентацией наблюдателя и что критическое самоуяснение социологии самым тесным образом примыкает к нашей ориентации в повседневной жизни. Наблюдатель, не проявляющий фундаментального интереса к социальным корням меняющейся этики того периода, в который он живет, неспособный понять социальные проблемы как результат напряжения между различными общественными слоями и не обнаруживший еще на собственном опыте, сколь плодотворным может быть возмущение, не в состоянии различить описанную выше стадию в развитии христианской этики, а тем более понять ее. Лишь в той степени, в какой он, вынося оценочное суждение, участвует (симпатизируя или негодуя) в борьбе низших слоев общества, в той степени, в какой он положительно или отрицательно оценивает самый факт возмущения, он способен осознать динамическое значение социального напряжения и возмущения. «Низший класс», «социальный подъем», «возмущение» – не формальные, а ориентирующие по своему значению понятия. При попытке формализовать их и устранить из них содержащиеся в них оценки модель мышления, характерная для данной ситуации, в которой новая, плодотворная норма создается именно возмущением, становится совершенно непонятной.
Чем глубже анализируется слово «возмущение», тем очевиднее становится, что это на первый взгляд как будто лишенное оценки, чисто описательное для определенной установки понятие переполнено оценками. И если устранить эти оценки, понятие теряет свою конкретность. Далее, если исследователь не стремится к реконструированию чувства возмущения, его пониманию будет совершенно недоступно то напряжение, которое пронизывает описанную выше ситуацию в раннем христианстве. Таким образом, и здесь ориентированная на определенную цель воля является отправным пунктом для понимания ситуации.
Для того чтобы работать в области социальных наук, необходимо участвовать в социальном процессе, однако эта причастность к коллективно-бессознательному стремлению никоим образом не означает, что лицо, участвующее в нем, фальсифицирует факты или неправильно их воспринимает. Наоборот, именно причастность к совокупности живых связей общественной жизни и является необходимой предпосылкой для понимания внутренней природы этих живых связей. Характер этой причастности исследователя определяет, как он формулирует свои проблемы. Невнимание к качественным элементам и полное игнорирование волевого фактора ведут не к объективности, а к отрицанию существенного качества объекта.
Однако неверно и обратное представление, согласно которому степень объективности прямо пропорциональна степени пристрастности. В этой сфере существует своеобразная внутренняя динамика типов поведения, тормозящих elan politique11, в результате чего этот elan12 как бы сам подчиняет себя интеллектуальному контролю. Есть некая точка, где движение самой жизни, особенно в период ее величайшего кризиса, поднимается над самим собой и сознает свои границы; тогда совокупность политических проблем идеологии утопии становится предметом социологии знания, а скептицизм и релятивизм, возникающие из взаимного уничтожения и обесценения различных политических целей, становятся средством спасения. Ибо этот скептицизм и релятивизм принуждают к самокритике и самоконтролю и ведут к новой концепции объективности.
То, что в жизни представляется столь непереносимым, а именно необходимость примириться с тем, что открыты бессознательные импульсы, исторически является предпосылкой научного критического самосознания. В личной жизни самоконтроль и саморегулирование также возникают только тогда, когда мы в нашем первоначально слепом, виталистическом стремлении вперед наталкиваемся на препятствие, отбрасывающее нас назад к самим себе. В ходе столкновений с другими возможными формами существования нам становится понятно своеобразие нашего образа жизни. Даже в нашей личной жизни мы обретаем господство над собой лишь тогда, когда действовавшие ранее как бы за нашей спиной бессознательные мотивы внезапно попадают в поле нашего зрения и тем самым становятся доступны сознательному контролю. Объективность и независимость мировоззрения достигаются не отказом от воли к действию и от собственных оценочных суждений, а посредством конфронтации с самим собой и про- верки себя. Критерий подобного самоуяснения состоит в том, что в поле нашего зрения полностью попадает не только наш объект, но и мы сами. Мы начинаем видеть себя не только в общих чертах, как познающего субъекта вообще, но в определенной роли, до этого момента скрытой от нас, в ситуации до этого момента нам недоступной, руководствующегося мотивами, до той поры нами не осознаваемыми. В такие моменты мы внезапно начинаем ощущать внутреннюю связь между нашей ролью, нашими мотивами и характером и способом нашего восприятия мира. Отсюда и парадокс, связанный с этими переживаниями, который заключается в том, что возможность относительного освобождения от социальной детерминированности возрастает пропорционально пониманию этой детерминированности. Люди, которые больше всего говорят о свободе, обычно наиболее слепо подчинены социальной детерминированности, поскольку они в большинстве случаев даже не предполагают, в какой мере их поведение определяется их интересами. Напротив, именно те, кто настаивает на неосознанном нами влиянии социальных детерминант, стремятся по возможности преодолеть эти детерминанты. Они выявляют бессознательные мотивы для того, чтобы ранее господствовавшие над ними силы могли быть посте- пенно преобразованы в объект сознательного решения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: