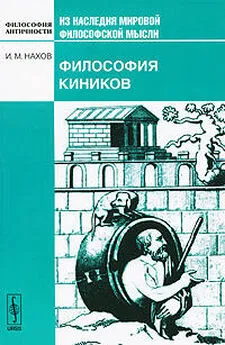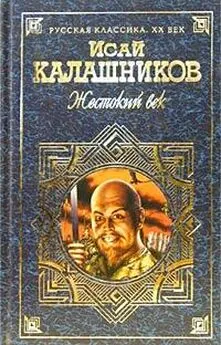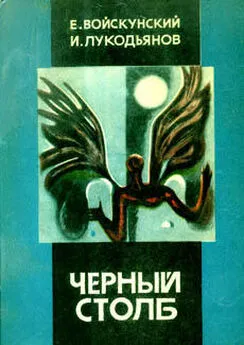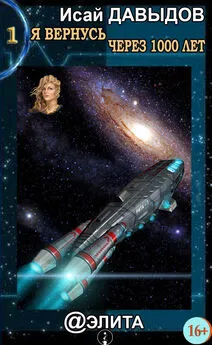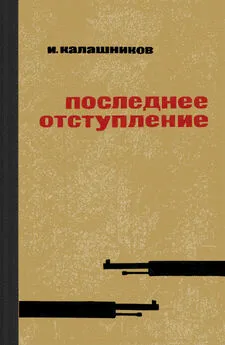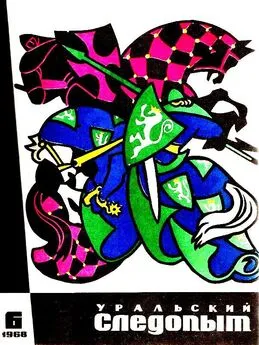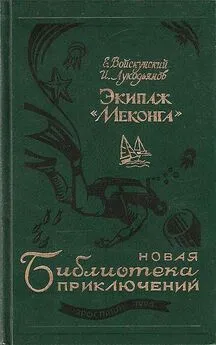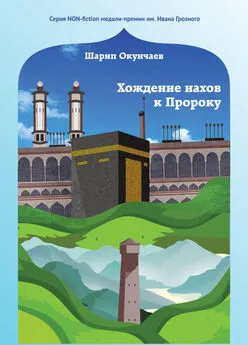Исай Нахов - Философия киников
- Название:Философия киников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:978-5-397-00930-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исай Нахов - Философия киников краткое содержание
Античность — это не только величественные ансамбли древности и классические произведения Фидия, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, но и пестрый мир городских площадей и улиц с их вечно кипящими страстями, народным бытом и борьбой трудовых низов за свои права и человеческое отношение. В книге рассказывается о философии киников, по-своему отразившей мировидение угнетенных слоев рабовладельческого общества, об удивительных мудрецах Антисфене, Диогене Синопском, Кратете, их образе жизни, проповеднической деятельности, о влиянии их учения на последующие поколения.
Рекомендуется филологам-античникам, философам, историкам, а также всем, кого интересуют проблемы античности.
Философия киников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Праведный гнев и классовая ненависть — большая сила, способная смести отжившее, однако одни лишь гнев — плохой советчик, и для построения нового общества его явно недостаточно. Угнетенные классы не знали, как изменить враждебный им мир, они могли только расшатывать его устои и расчищать строительную площадку будущего. Этим обусловлены утопичность и нежизненность всех социальных построений кинических философов. Да и вообще, футурологи древности часто обращались за вдохновением не к будущему, а к прошлому. Для них, как и для всех «страждущих и обремененных», «утраченный рай лежал позади». Поэтому они не могли видеть, куда и как движется действительная история, что несет с собой классовая борьба.
Но в кинической утопии была одна особенность, которая принципиально выводила ее за пределы эгалитарных и соглашательских, либеральных по сути мечтаний неудачливых рабовладельцев — требование обязательности труда для всех, уничтожающее водораздел между свободными и рабами. Однако, даже выступая с благородной и прогрессивной защитой производительного труда, киники и здесь оставались утопистами, так как сам труд они мыслили как несложный, примитивный ручной труд «в поте лица», направленный на удовлетворение лишь самых насущных жизненных потребностей человека. Впадая в крайности и преувеличения, киники проповедовали одичание, возвращение к первозданной природе, лелеяли идеал самодовлеющей личности, отрешенной от благ цивилизации. В кинической доктрине идет речь о приспособлении людей к природе, а не о господстве над ней.
Больше всего киники думали о власти над душами людей, о том, как поднять в их глазах значение Духовных ценностей и научить их презирать ценности материальные и тем самым освободить личность от рабского подчинения государству, законам, дому, семье, обычаям и т. п. В этом и состояло их «царственное искусство», поэтому даже в рубище нищего Диоген казался «царем и властелином» (Дион Хрис. IX, 9). Сравнивая себя с царями, киники в мыслях преодолевали самые высокие социальные барьеры и по-своему провозглашали превосходство неимущей мудрости над всесилием власти и богатства. Как же еще могли они показать Свое презрение к стоящим у власти, если не объявить себя, сирых и убогих, царями?! Общественный пафос кинизма питался, как это ни странно, соками индивидуализма, провозгласившего свободу личности и ее внутренний мир высшим принципом жизненного поведения и, таким образом, накладывающего на каждого груз персональной ответственности за судьбы всего мира. Свое попранное и изрядно потрепанное «я» киник энергично пытался утвердить многими способами, в том числе и через крайний индивидуализм.
Почему Антисфен видит в философии искусство находить радость в общении с самим собой? (Стоб. 29, 65; Д. Л. VI, 6). Отчего даже кинический патрон Геракл рисуется подчас одиноким страдальцем, «нагим и покинутым»? Откуда такой воинствующий индивидуализм у бедняги-киника? Он шел от противоборства сил, разлагающих полис изнутри, и в первую очередь от класса, стоявшего вне официального общества, вне государства, общины, рода, семьи, собственности, — иначе говоря, от рабов, чужестранцев, эмигрантов, различных категорий не-граждан. Социальные низы, политически и идеологически низводимые до роли орудий производства, еще не находились на такой стадии сплоченности и самосознания, чтобы понимать: в единении сила. Рассыпанные по мелким мастерским и полям, занятые в несложном домашнем хозяйстве, изнуренные непосильным трудом в рудниках под недреманным оком надсмотрщиков, разъединяемые в часы недолгого отдыха, «некоммуникабельные», они жаждали прежде всего личной свободы. Классическому рабу не могло быть свойственным коллективистское сознание, и кинизм отразил эту особенность его психологической установки.
При рабовладельческом строе происходила насильственная деперсонализация рабов. Попавший первоначально по воле злой судьбы в сети рабства свободный человек затем становился вещью, лишался элементарных человеческих прав. В ответ на это киники пытались наполнить мир угнетенной личности интенсивной внутренней жизнью. Формируя моральный облик людей, они старались исправить социальную несправедливость. Нужно ли говорить о безнадежности и несостоятельности таких благородных, но обреченных на провал попыток.
Киники подвергли наиболее радикальной в античности критике важнейший социально-экономический фактор той эпохи — рабство, но исходили не столько из политических, сколько из нравственных критериев. Рабство оказалось внутренним состоянием человека. Рабом может быть и свободнорожденный, если он подчиняется страстям, удовольствиям, преклоняется перед конвенциональными ценностями. Эмансипация физическая, гражданская, политическая должна начинаться с души. Вопрос о рабах переводился, следовательно, из плана социального в план этический. Но даже в таком мистифицированном виде (a, может быть, именно поэтому) взгляды киников на рабство, их утешительный миф о духовной «внутренней свободе» (Д. Л. VI, 33, 43) привлекал угнетенных, вооружая чувством собственного достоинства и морального превосходства над господами. Как повсюду, так и в политике киники проводили «перечеканку монеты», пытаясь сделать из раба свободного, а из свободного раба. Будучи париями и отщепенцами в обществе, они, тем не менее, чувствовали себя истинными хозяевами жизни. В этих «перевернутых», как на матовом стекле фотокамеры, отношениях отогревали душу те, кого ценили только за тело, животную, мускульную силу. Чем больше убеждали раба, что он «тело», «плоть», «сома», тем истовее верил он в благородство своей души.
Являясь порождением жесточайших классовых антагонизмов, киники неустанно и темпераментно напоминали людям, о неустроенности мира и звали к его коренному обновлению.
Этика
Политика охраняет и регулирует жизнь государства своими законами, декретами, договорами, инструкциями, а господствующая мораль направляет поведение человека средствами общественного воздействия, расхожими мнениями, представлениями о добре и зле, приличиях, принципах поведения, долге, справедливости и т. п. И та и другая связаны между собой и служат наряду с другими идеологическими формами (религия, философия, литература, искусство) охранению и укреплению существующего строя. В интересах правящего класса исподволь создаются стереотипы, установки и модели, закрепляющие исторически возникшую структуру общества. Насколько господствующий класс способен отражать интересы всего общества в целом, настолько его этические учения и мораль становятся общенародными и даже общечеловеческими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: