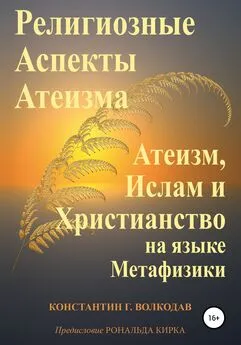Эмерих Корет - Основы Метафизики
- Название:Основы Метафизики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмерих Корет - Основы Метафизики краткое содержание
Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие австрийского философа и теолога Э.Корета (р.1919) являет собой единственную, пожалуй, в настоящее время попытку систематического изложения метафизики. Основные элементы метафизической традиции представлены в ней как условия личностной самореализации человека в горизонте бытия. Раскрывается сущностная направленность человеческого духовного самоисполнения на абсолютное бытие.
Для студентов вузов, преподавателей, для всех, интересующихся философией.
Основы Метафизики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. ОТ ВОПРОШАНИЯ К БЫТИЮ
2.1. Вопрос
В начале стоит вопрос о начале : что есть правильное начало? Оно должно быть первым, не предполагать какого-либо предрешения, но указывать на то, что должно происходить из начала. Где бы и как бы я ни хотел начинать, прежде я должен вопрошать о начале. Этого вопроса нельзя избежать.
Вопрос о начале, однако, сам дает ответ: начало есть вопрос . Такое начало является бесспорным и беспредпосылочным. Если оно ставится под вопрос, то это опять-таки вопрос, еще раз доказывающий вопрошание как возможное и необходимое. Вопрошать я могу и обязан в любом случае, по меньшей мере вопрошать о начале.
В стремлении новейшей философии к методическому обоснованию вопрос о правильном начале ставится вновь и вновь. Его усматривают в сомнении или суждении, в языке, в диалоге, в истории, в некотором привилегированном феномене либо в некоторой пограничной ситуации человеческого существования. Наличие оправданных аспектов в этих подходах неоспоримо, и любой из них возможен, однако как первоначало ни один из них неприемлем. Всякий такой подход не беспредпосылочен, поскольку предваряется вопросом: существует ли возможное и правильное начало. Если мы выбираем для начала сам вопрос, то исключительно из этого методического основания: прежде всякого другого начала мы должны вопрошать о начале.
Если начало есть вопрос, то вопрос о начале превращается в вопрос о вопросе. Вопрошание обращается к себе самому, оно рефлектирует и опрашивает самого себя; само вопрошание превращается в содержание вопроса.
Такой ход мысли не является логической конструкцией, он есть изложение того, что происходит во мне самом: если я вопрошаю о начале и в этом познаю вопрос как начало, то интенция вопрошания обращается на самое вопрошание.
В определенном отдельном вопросе (содержательно) можно усомниться, правильно ли он поставлен, осмыслен ли, может ли данный вопрос подлежать ответу; это все дальнейшие вопросы. Поэтому они не упраздняют возможность и необходимость вопрошания вообще , а подтверждают его. Вопрошать я могу и должен во всяком случае. Так возникает вопрос о том, что вообще происходит, когда я вопрошаю.
Здесь речь идет не о языковой форме вопросительного предложения в его логико-грамматической структуре, а о реальном акте, или исполнении , вопрошания. Под ним подразумевается реальное событие: «actus» (действительность) как «actio» (действие) или действие как действительность, т. е. реально положенное исполнение акта. Фома Аквинский называет это «exercitium actus» в смысле выполнения или осуществления акта [1] Это переводится на французский язык как «exercice» (Марешаль), на английский – «performance» (Лонерган), на немецкий – чаще всего «Vollzug» как актуальное событие, приблизительно в смысле «Tat-Handlung» у Фихте, где дело и действие, полагание и положенное в исполнении акта суть одно и то же. Новейшая философия языка исследует «речевые акты» или «речевые действия» (Д. Л. Остин, Д. Р. Серль и др.), чаще всего не рефлектируя, однако, акт как таковой и не достигая положенного в исполнении бытия.
. Здесь, следовательно, под вопросом подразумевается исполнение вопрошания, т. е. активное полагание действительности вопрошания.
Если вопрос о начале превращается в вопрос о вопросе, то уже нет того же самого акта вопрошания, но есть последующий рефлексивный акт, который опрашивает вопрошание как таковое относительно его своеобразия и возможности. Данный вопрос больше не направляется на то, могу ли я вопрошать, – это доказано в исполнении, вопрос теперь о том, как я могу вопрошать, как вообще возможно вопрошание. Вопрос о вопросе последовательно превращается в вопрос об условиях возможности вопрошания.
Таким образом, вопрос не только обосновывает начало, но и обусловливает собою продвижение дальнейшего вопрошания обо всем, что содержится в исполнении вопрошания, однако является еще вопросительным или сомнительным. Здесь прежде всего встает вопрос о том, как, т. е. при каких условиях, вообще возможно вопрошание [2] Здесь можно еще оставить открытым вопрос о том, дано ли исполнение вопрошания (в смысле критики Канта) лишь как «явление» сознания или гарантировано уже как абсолютно значимое «само-по-себе-бытие». Это может окончательно разрешиться только в обнаружении безусловной значимости (ср. 2.3.3 и сл.).
.
2.1.3.1. Вопрошать я могу лишь в том случае, если того, о чем я вопрошаю, я еще не знаю; иначе вопрошание было бы упреждено знанием и уже не было бы возможным. Но вместе с тем вопрошать я могу лишь при условии, что то, о чем я вопрошаю, я все же знаю; иначе вопрошание не имело бы смысла и направления, оно, как вопрошание, было бы еще не возможным. Отсюда ясно, что вопрошание уже предполагает знание и не-знание, или знание о собственном не-знании; поэтому мы и вопрошаем далее. Это основополагающий опыт человека, выраженный уже Сократом: «Я знаю, что я ничего не знаю», т. е. я знаю не все, и ничего из того, что я знаю, я не знаю всецело и исчерпывающе; отсюда и возникает вопрошание. То же самое подразумевает «docta ignorantia» у Августина и Николая Кузанского: знание о собственном не-знании, из которого возникает вопрошание. Мы можем назвать это предзнанием , оно и есть условие возможности вопрошания.
Здесь обнаруживается условие в строгом смысле (conditio sine qua non). Оно означает: только если дано некоторое (А), тогда и только тогда возможно другое (В); или это (В) возможно, только если предположено (А). В этом состоит необходимое отношение зависимости обусловленного от своего условия. Таким образом мы вопрошаем об условиях вопрошания [3] О понятиях «условие», «основание» и «причина» см. 4.4.2.2. Здесь же предполагается наиболее широкое понимание условия, которое, хотя и выражает необходимую взаимосвязь, но не высказывает еще (причинного) отношения обоснования.
.
2.1.3.2. Все же существует вопрос, как или из чего становится понятным указанное отношение условия. Ответ может быть дан уже здесь: появляется противоположность, ведущая к противоречию, если не предполагается данное условие. Вопрошание, как указывалось, предполагает знание и не-знание о спрошенном. Это было бы противоречием, если бы оно не упразднялось в знаемо-незнаемом предзнании, которое оказывается условием возможности вопрошания, однако далее должно истолковываться.
Уже у Канта трансцендентальный вопрос руководится тем принципом, что всякая двойственность или множество (многообразие) предполагает некоторое пред- или вышестоящее единство, при условии которого оно становится объяснимым [4] Так, уже в «Трансцендентальной диалектике» (KiV) триада тезиса, антитезиса и синтеза превращается в исток диалектического метода идеализма.
. В этом за ним следовали Фихте и Шеллинг, но главным образом Гегель , который диалектику противоречия превратил в абсолютный метод [5] Уже Шеллинг справедливо критиковал диалектику Гегеля за то, что тот делает из нее принцип дедукции и объявляет абсолютным методом. Мы также не следуем здесь диалектике Гегеля, оставляя за собой возможность использовать ее методические аспекты.
. Отсюда мы лишь заключим, что получалось бы противоречие, если бы не было предположено условие, которое делает понятной противоположность, свободную от противоречия, что и обнаруживается в предзнании вопрошания.
Интервал:
Закладка: