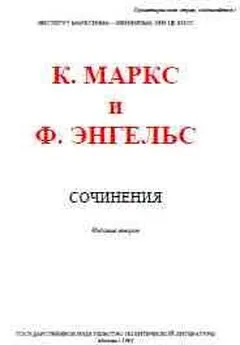Карл Маркс - Собрание сочинений, том 4
- Название:Собрание сочинений, том 4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Маркс - Собрание сочинений, том 4 краткое содержание
Четвертый том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит произведения, написанные с мая 1846 по март 1848 года.
В этот период в основном завершается процесс формирования марксизма, который отныне выступает как сложившееся, непрерывно развивающееся научное мировоззрение рабочего класса, как могучее идейное оружие в его борьбе за революционное преобразование общества, за коммунизм. Относящиеся к этому времени работы — «Нищета философии» и «Манифест Коммунистической партии» — являются уже, как указывал В. И. Ленин, произведениями зрелого марксизма.
Собрание сочинений, том 4 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В утешение бедным французам, которые не достигли ничего, кроме осуществления макиавеллизма, г-н Грюн на стр. 73 проливает капельку бальзама:
«Французский народ в XVIII веке был среди народов Прометеем, противопоставившим человеческие права правам богов».
Не будем обращать внимание на то, что таким образом «понятие «человек»» все же должно было быть «исследовано», или на то, что права человека «противопоставлялись» не «правам богов», а правам короля, дворянства и попов: оставим эти мелочи и молча предадимся скорби, ибо здесь с самим г-ном Грюном происходит нечто «человеческое».
А именно г-н Грюн забывает, что в более ранних своих произведениях (см., например, статью о «социальном движении» в I томе «Rheinische Jahrbucher» [99]и др.) он не только широко комментировал и «популяризировал» известное рассуждение о правах человека из «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» [100], но даже с истинным усердием плагиатора утрировал его, превратив в бессмыслицу. Он забывает, что клеймил там права человека, как права лавочника, мещанина и т. д., и теперь вдруг превращает их в «человеческие права», в права, присущие человеку». То же случается с г-ном Грюном на стр. 251 и 252, где взятое из «Фауста» «право новое, родное, о чем, увы, и речи нет», превращается в «твое естественное право, твое человеческое право, право внутренне определять свои действия и наслаждаться своим произведением», хотя Гёте прямо противопоставляет это право «законам и правам, наследному именью», передающемуся «как старая болезнь» [101], т. е. традиционному праву ancien regime {70} , с которым находятся в противоречии лишь «прирожденные, не зависящие от давности, неотчуждаемые права человека», провозглашенные революцией, но отнюдь не права, присущие «человеку». На этот раз г-н Грюн, конечно, должен был забыть то, что писал раньше, чтобы Гёте не потерял человеческой точки зрения. Впрочем, г-н Грюн не совсем еще забыл то, чему он научился из «Deutsch-Franzosisclie Jahrbucher» и других работ того же направления. На стр. 210 он определяет, например, тогдашнюю французскую свободу как «свободу от несвободной (!) всеобщей (!!) сущности (!!!)». Этот ублюдок, очевидно, возник из «общности» {71} со стр. 204 и 205 «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» [102]благодаря переводу этих страниц на тот язык, который в обиходе у современного немецкого социализма. «Истинные социалисты» вообще имеют обыкновение, когда они встречаются с рассуждением, которое им непонятно, так как оно абстрагировано от философии и содержит юридические, экономические и т. н. термины, мигом сводить его к короткой, уснащенной философскими терминами фразе и заучивать этот вздор наизусть для любого употребления. Таким именно образом правовая «общность» «DeutschFranzosische Jahrbucher» превращена в приведенную выше философски-бессмысленную «всеобщую сущность»; политическая эмансипация, демократия нашли свою философскую краткую формулу в «освобождении от несвободной всеобщей сущности» — формулу, которую «истинный социалист» может уже положить в карман, не опасаясь, что его ученость окажется для него слишком тяжелым бременем. — На стр. XXVI г-н Грюн эксплуатирует подобным же образом то, что в «Святом семействе» сказано о сенсуализме и материализме [103], и использует сделанное в этой работе указание, что у материалистов прошлого столетия, в частности, у Гольбаха, можно найти точки соприкосновения с социалистическим движением наших дней, для того чтобы привести упомянутые выше цитаты из Гольбаха и снабдить их социалистическими комментариями.
Переходим к философии. К ней г-н Грюн питает глубокое презрение. Уже на стр. VII он сообщает нам, что ему «впредь более нечего делать с религией, философией и политикой», что все они «относятся к прошлому и никогда более не поднимутся после пережитого ими крушения» и что от всех них и, в частности, от философии он «не сохраняет ничего, кроме человека и способной к общественной деятельности социальной сущности». Этой способной к общественной деятельности общественной сущности и упомянутого выше человеческого человека во всяком случае достаточно, чтобы утешить нас по поводу безвозвратной гибели религии, философии и политики. Но г-н Грюн весьма умерен. Он не только «сохранил» из философии «гуманистического человека» и всевозможные «сущности», но и является счастливым обладателем значительной, хотя и весьма хаотической, массы гегелевских традиций. Да и могло ли быть иначе, после того как он несколько лет тому назад не раз с благоговением преклонял колени перед бюстом Гегеля? Нас, вероятно, попросят не касаться таких смешных и скандальных personalia {72} , но г-н Грюн сам доверил эту тайну печати. На этот раз мы не скажем где. Мы уже столько раз указывали г-ну Грюну его источники, отмечая и главу и стих, что можем потребовать хоть раз такой же услуги и от г-на Грюна. Чтобы еще раз доказать ему нашу готовность к услугам, мы доверим ему тайну, что окончательное решение спорного вопроса о свободе воли, приводимое им на стр. 8, он заимствовал из «Трактата об ассоциации» Фурье, раздел о свободе воли [104]. Лишь замечание, что теория о свободе воли есть «заблуждение немецкого духа», является своеобразным «заблуждением» самого г-на Грюна.
Наконец, мы приближаемся к Гёте. На стр. 15 г-н Грюн доказывает, что Гёте имеет право на существование. Гёте и Шиллер — это разрешение противоречия между «бездеятельным наслаждением», т. е. Виландом, и «чуждым наслаждения действием», т. е. Клопштоком. «Лессинг первый заставил человека опереться на самого себя» (сумеет ли г-н Грюн проделать вслед за ним этот акробатический фокус?). — В этой философской конструкции перед нами сразу все источники г-на Грюна. Форма конструкции, основа всего — это общеизвестная гегелевская манера примирения противоречий. «Опирающийся на самого себя человек» — это гегелевская терминология в применении к Фейербаху. «Бездеятельное наслаждение» и «чуждое наслаждения действие» — противоречие, по поводу которого г-н Грюн заставляет Виланда и Клопштока разыгрывать приведенные выше вариации, — заимствованы из собрания сочинений М. Гесса. Единственный источник, которого мы не обнаруживаем, это сама история литературы, не имеющая ни малейшего понятия о приведенном выше хламе, и поэтому у г-на Грюна есть полное основание игнорировать ее.
Так как мы как раз говорим о Шиллере, уместно привести следующее замечание г-на Грюна: «Шиллер был всем, чем только можно быть, не будучи только Гёте» (стр. 311). Позвольте, ведь можно было бы быть и г-ном Грюном! — Впрочем, здесь наш автор присваивает себе лавры Людвига Баварского:
Рим, у тебя нет того, чем владеет Неаполь,
у Неаполя качеств нет Рима; Если б вас слить воедино, это было бы слишком для мира.
Этой исторической конструкцией подготовлено появление Гёте в немецкой литературе. «Человек», которого Лессинг «заставил опереться на самого себя», только в руках Гёте может проделывать дальнейшую эволюцию. Именно г-ну Грюну принадлежит заслуга открытия в Гёте «человека» — не того естественного, жизнерадостного, наделенного плотью и кровью человека, который рождается от мужчины и женщины, а человека в высшем смысле, диалектического человека, caput mortuum {73} в том тигле, в котором были выплавлены бог-отец, бог-сын и бог-дух святой, cousin germain {74} гомункула из «Фауста», словом, не человека, о котором говорит Гёте, а «человека», о котором говорит г-н Грюн. Но кто же этот «человек», о котором говорит г-н Грюн?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: