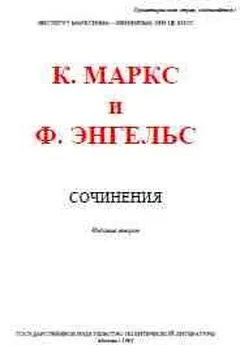Карл Маркс - Собрание сочинений, том 3
- Название:Собрание сочинений, том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Маркс - Собрание сочинений, том 3 краткое содержание
В третий том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса входят «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса, написанные весной 1845 г., «Немецкая идеология» — большой совместный труд основоположников марксизма, созданный ими в 1845–1846 гг., и работа Ф. Энгельса «Истинные социалисты», которая была написана в январе — апреле 1847 г. и является прямым продолжением «Немецкой идеологии».
Собрание сочинений, том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иначе дело обстоит у ограниченного тесными рамками берлинского школьного наставника или у писателя, деятельность которого ограничивается тяжкой работой, с одной стороны, и наслаждением мыслью — с другой, мир которого простирается от Моабита до Кёпеника и наглухо заколочен за Гамбургскими воротами [86], отношения которого к этому миру сведены до минимума его жалким положением в жизни. У такого индивида, когда он испытывает потребность в мысли, мышление неизбежно становится столь же абстрактным, как сам этот индивид и его жизнь, и противостоит ему, лишённому всякой сопротивляемости, в виде косной силы, деятельность которой даёт индивиду возможность спастись на мгновение из его «дурного мира», даёт возможность минутного наслаждения. У такого индивида немногие оставшиеся влечения, возникающие не столько из общения с внешним миром, сколько из устройства человеческого тела, проявляются лишь отражёнными толчками, т. е. они принимают в рамках своего ограниченного развития тот же односторонний и грубый характер, как и его мышление, появляются лишь через большие промежутки времени и под давлением непомерно разросшегося преобладающего влечения (подкрепляемые непосредственными физическими причинами, [например спазмами в животе) и проявляются бурно и насильственно, грубо вытесняя обыкновенное, естественное влечение, что приводит к дальнейшему усилению их власти над мышлением. Само собой разумеется, что школьно-наставническая мысль рефлектирует и изощряется в умствованиях над этим эмпирическим фактом по-школьно-наставнически. Но простое заявление, что Штирнер вообще «создаёт» свои свойства, не объясняет даже их развития в определённом направлении]. Развиваются ли эти свойства в универсальном или в местном масштабе, поднимаются ли они над местной ограниченностью или остаются в плену у неё, это зависит не от Штирнера, а от развития мировых сношений и от того участия, которое он и местность, где он живёт, принимают в них. При благоприятных обстоятельствах отдельным лицам позволяет избавиться от их местной ограниченности отнюдь не то, что индивиды в своей рефлексии воображают, будто они уничтожили или собираются уничтожить свою местную ограниченность, а лишь тот факт, что они в своей эмпирической действительности и в силу эмпирических потребностей дошли до установления мировых сношений {197} .
Единственно, чего достигает наш святой с помощью своего мучительного рефлектирования над своими свойствами и страстями, это то, что этим непрестанным крючкотворством и вознёй с ними он отравляет себе наслаждение ими и их удовлетворением.
Святой Макс творит, как уже было сказано, лишь себя как творение, т. е. он ограничивается тем, что подводит себя под эту категорию творения. [Деятельность его как творца заключается в том, что он рассматривает себя как творение, причём он даже не заботится о том, чтобы опять уничтожить это раздвоение себя на творца и творение, — раздвоение, которое является его собственным продуктом. Раздвоение на «связанное с сущностью» и «не связанное с сущностью» становится у него перманентным жизненным процессом, становится, стало быть, пустой видимостью, т. е. его собственная жизнь существует только в «чистой» рефлексии, не становясь даже действительным бытием; и так как это последнее находится всё время вне его и его рефлексии, то он тщетно старается представить рефлексию как нечто связанное с сущностью.
«Но так как этот враг» (т. е. истинный эгоист как творение)] «порождает себя в своём поражении, так как сознание, фиксируясь на нём, не освобождается от него, а постоянно останавливается на нём и постоянно видит себя запятнанным, и так как это содержание его стремления является вместе с тем самым низким, то мы находим лишь ограниченную собой и своими маленькими делами» (т. е. бездеятельностью), «ограниченную и копающуюся в себе и столь же несчастную, сколь жалкую личность» (Гегель).
То, что сказано нами до сих пор о раздвоении Санчо на творца и творение, он выражает, наконец, сам в логической форме: творец и творение превращаются в Я предполагающее и Я предполагаемое, resp. {198} (поскольку его предполагание [своего Я] есть полагание} в Я полагающее и Я положенное:
«Я со Своей стороны исхожу из некоторого предположения, поскольку я предполагаю себя; но Моё предположение не стремится к своему совершенству» (скорее святой Макс добивается его унижения), «а служит мне лишь предметом наслаждения и поглощения» (завидное наслаждение!). «Я питаюсь одним только Моим предположением и существую лишь постольку, поскольку поглощаю его. Но поэтому» (великое «поэтому!») «указанное предположение вовсе не является предположением; ибо так как» (великое «ибо так как»!) «Я — Единственный» (читай: истинный, согласный с собой эгоист), «то Я ничего не знаю о двойственности предполагающего и предполагаемого Я («несовершенного» и «совершенного» Я или Человека)» — читай: совершенство моего Я состоит только в том, что я в каждое мгновение знаю себя как несовершенное Я, как творение, — «но» (величайшее «но»!) «то, что Я поглощаю Себя, означает лишь, что Я есмь». (Читай: То обстоятельство, что Я есмь, означает здесь лишь то, что Я в воображении поглощаю присущую мне категорию предположенного.) «Я не предполагаю Себя, ибо каждое мгновение Я ещё вообще только полагаю или творю Себя» (т. е. полагаю и творю как предположенного, положенного или сотворённого), «и есмь Я лишь потому, что Я не предположен, а положен» (читай: и есмь лишь потому, что Я предположен уже до моего полагания), «и положен опять-таки лишь в тот момент, когда Я полагаю Себя, т. е. Я — творец и творение в одном лице».
Штирнер — «положительный муж», ибо он всегда — положенное Я, а его Я есть «также и муж» (Виганд, стр. 183). «Поэтому» он — положительный муж; «ибо так как» его страсти никогда не толкают его на эксцессы, «то» он представляет собой то, что бюргеры называют положительным человеком, «но» то обстоятельство, что он положительный человек, «означает лишь», что он всегда ведет счёт своим собственным превращениям и преломлениям.
То, что до сих пор, — говоря на этот раз, вслед за Штирнером, словами Гегеля, — было только «для нас», а именно творческой деятельностью, не имеющей никакого другого содержания, кроме общих рефлективных определений, то «положено» теперь самим Штирнером. Борьба святого Макса против «Сущности» достигает именно здесь своей «конечной цели», поскольку он самого себя отождествляет с сущностью и даже с чисто спекулятивной сущностью. [Отношение творца и творения превращается в раскрытие самопредполагания, т. е. Штирнер превращает в крайне «беспомощное» и путаное представление то, о чём Гегель говорит в «учении о сущности» по поводу рефлексии. В самом деле, так как святой Макс выдёргивает один момент своей рефлексии, а именно, полагающую рефлексию, то его фантазии становятся «отрицательными», поскольку он, — дабы отличить себя, как полагающего, от себя, как полагаемого, — превращает себя и т. п. в «самопредположение», а рефлексию — в мистическую противоположность творца и творения.] Мимоходом следует заметить, что Гегель разбирает в этом отделе «Логики» «махинации» «творческого Ничто», чем и объясняется, почему святой Макс уже на стр. 8 должен был «положить» себя как это «творческое Ничто».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: