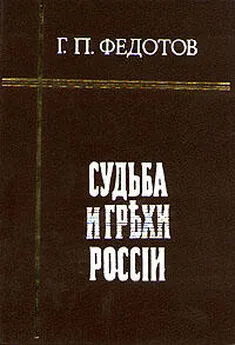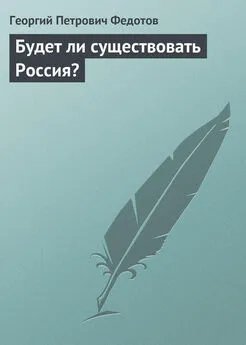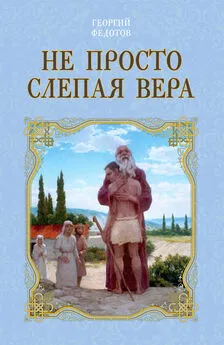Георгий Федотов - Судьба и грехи России
- Название:Судьба и грехи России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «София»
- Год:1992
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87316-002-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Федотов - Судьба и грехи России краткое содержание
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/
Судьба и грехи России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
==311
Духу». Те же слова повторяются дословно в более позднем житии св. Иоасафа Каменского.
Справедливость требует отметить, что оба последних жития с точной формулировкой умного делания составлены в XVI столетии, после трудов Нила Сорского. Тем не менее мы решаемся утверждать, с высокой долей вероятности, непрерывность духовной, мистической традиции, идущей от преп. Сергия к Нилу и его самого объясняющей. Момент видений, характеризующих северное подвижничество, может только укрепить нас в этом убеждении: таково видение св. Кирилла Белозерского (голос Богоматери) и явление Спасителя преп. Иоасафу. Еще одно, последнее наблюдение. Мистическое самоуглубление, бегство в пустыню не мешает северным подвижникам прославлять любовь как «главизнудобродетелей» и излучать ее при всяком соприкосновении с людьми. О ней внушает Дионисий Глушицкий и его биограф. О ней говорит Иоасафу явившийся ему Христос. И контекст, и разъяснения не оставляют сомнений в том, что эта любовь направлена не только к Богу, но и к человеку.
6.
Личность и учение Нила Сорского слишком хорошо известны; это дает нам возможность, говоря о нем, лишь прочертить линии, связующие его с русской традицией святости. Преп. Нил с учеником своим Иннокентием побывал на Святой горе и «в странах Цареграда», но до того он был постриженником Кириллова монастыря, сохранившего всю строгость первоначальной жизни. В близком соседстве с Кирилловым (в 15 верстах) он и основал свой скит в дикой болотистой чаще. Сочинения его, особенно Устав, представляют художественную мозаику цитат из греческих отцов мистического направления. Но многие из "них, как мы видели, были известны на Руси с конца XIV века. Житие его не сохранилось, но многочисленные послания его как бы изнутри освещают ту светлую и любовную святость, которая течет из Сергиева источника. Его любовь находит слова поистине огненные. «О любимый мой о Христе брат, вожделенный Богу паче всех...», «Не терплю, любимче мой, сохранити таинство в молчании, но бываю безумен и юрод за братнюю пользу». И, однако, для умной молитвы, которой он посвятил себя, общение с людьми становится уже тяжким бременем: приходящие к нему «не перестают стужати ми, и сего ради смущение бывает нам». Его смирение так велико, что он не желает быть
==312
ничьим учителем: «Написах писание сие... братиям моим присны, яже суть моего нрава: тако бо именую вас, а не ученики. Един бо нам есть Учитель». Известно завещание Нила: «Повергните тело мое в пустыне — да изъедят е зверие и птицы; понеже согрешило есть к Богу много и не достойно погребения. Мне потщания, елико по силе моей, чтобы быть не сподоблен чести и славы века сего никоторыя, яко же в житии сем, тако и по смерти». О нестяжании его слышали и те, кто ничего, кроме этого, не слышал о преп. Ниле. Горячий противник монастырского землевладения, он выступил против него на соборе 1503 года: «И нача старец Нил глаголати, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черньцы по пустыням, а кормились бы с рукоделием». Его любовь к бедности так велика, что он хочет распространить ее и на Церковь: «Сосуды златы и сребряны и самые священные не подобает имети, такожде и прочие украшения излишние, но точию потребные церкви приносити». Отступая здесь от господствующей русской традиции, он ссылается на авторитет Златоуста и Пахомия Великого. Но и в этой черте мы узнаем деревянные сосуды и холщовые ризы преп. Сергия.
В согласии с духовной традицией подвижничества, св. Нил не делает ударения на телесной аскезе. «О пище же и питии противу (то есть согласно) силы своего тела, более же души, окормления кийжде да творит... Здравии бо и юнии да утомляют тело постом, жаждою и трудом по возможному; старии же и немощнии да упокояют себя мало». Внутренняя аскеза, очищение страстей и помыслов на первом плане. Его скитский или монастырский устав представляет краткую, но полную энциклопедию аскетики, составленную с большим искусством, большим писательским даром и всецело по древним источникам. Венцом аскезы является «делание сердечное», «умное хранение». Описание умной молитвы дано со всею обстоятельностью, допускаемой в такого рода вещах: «Поставити ум глух и нем... и имети сердце безмолвствующе от всякого помысла... и зрети прямо во глубину сердечную и глаголати: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя...» И так глаголи прилежно, аще стоя, или сидя, или лежа и ум в сердце затворя и дыхание держа, елико можешь...» «Мечтаний же зрак и образы видений не приемли... да не прельщен будеши...» Этой безмолвной молитвы нельзя оставлять для обычной, для «пения». После «умной» всякая иная молитва является «прелюбодеянием ума» (Григорий Синаит). Ярко описывает словами Симеона Нового Богослова исступление и восторг, озаряющий душу, отдавшуюся умной молитве: «Кой язык изречет. Кой же ум скажет? Кое слово изглаголет? Страшно бо, воистину страшно, и
==313
паче слов. Зрю свет, его же мир не имать, посреди селлии на одре седя; внутри себе зрю Творца миру, и беседую, и люблю, и ям, питаясь добре единым боговедением, соединяюсь Ему, небеса превосхожду: и се всем известно и истинно. Где же тогда тело, не вем».
Замечательна — при такой высоте и пламенности духовной жизни — та рассудительность и то понимание многообразия личных путей, которые отличают св. Нила. «Вся же естества единым правилом объять невозможно есть: понеже разнство велие имут тела и крепость яко медь и железо от века». И свои собственные советы он дает личной свободе: «аще произволяют...», «аще угодно Богу и полезно душам...», «аще кто о сих вящее и полезнейшее разумеет, и он тако да творит, а мы о сем радуемся». Св. Нил не очень доверяет человеческому руководству. Трудно найти наставника непрелестного». Поэтому он и предлагает вместо мучителя «божественные писания» и «словеса божественных отцов». Но свою духовную свободу св. Нил простирает и в эту священную для древнего русского человека область писаний. «Писания бо многа, но не вся божественна». В этом круге писаний Нил устанавливает градацию авторитетов и, не презирая разума, пользуется им в трудном изыскании истины: «Наипаче испытую божественного писания, прежде заповеди Господни и толкования их, и апостольские предания, тоже и учения св. отец; ияже согласны моему разуму к благоугождению Божию и к пользе души преписую (списываю) себе и тем научаюся». Эти начала разумной критики преп. Нил применял в области агиологии, чем нажил себе немало врагов. О своих критических приемах он сам говорит так: «Писах же с разных списков, тщася обрести правы и обретох в списках онех многа неисправленна и елика возможно моему худому разуму исправлях...» Этой же критической работы он просит от своих более ученых читателей. Сочетание мистической традиции исихастов с широтой разума и духовной свободой делает творения св. Нила совершенно исключительными в духовной литературе Древней Руси.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: