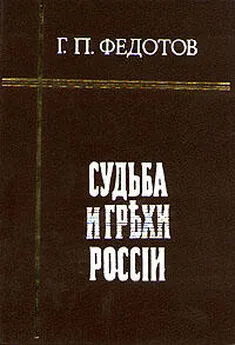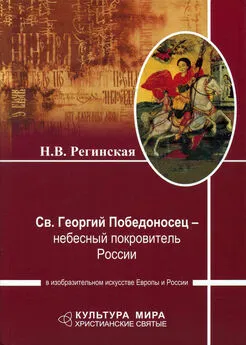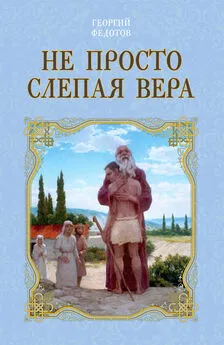Георгий Федотов - Судьба и грехи России
- Название:Судьба и грехи России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «София»
- Год:1992
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87316-002-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Федотов - Судьба и грехи России краткое содержание
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/
Судьба и грехи России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
==339
ретностью красноречивых фактов, в художественности изложения без ущерба для строгой научности, а главное, в том равновесии между анализом и синтезом, между построением и фактической содержательностью, которое составляет секрет большого исторического стиля. Почти не может быть сомнений в знакомстве Ключевского с курсом Гизо. Гизо был учителем Соловьева, о ГизоКлючевский говорит как о профессоре со слов своего учителя, упоминая даже о тембре его голоса. Но из сравнения с курсом Гизо парадоксальная особенность построения Ключевского бросается в глаза: у Гизо внимание равномерно распределено между социальной и духовной культурой, между правом и государственным развитием, с одной стороны, — наукой и религией, с другой. Что Ключевский пожертвовал половиной исторического содержания не из сознания своей некомпетентности, это ясно для всякого. Автор диссертации о «Русских житиях святых», в многочисленных рецензиях доказавший свой пристальный интерес к изучению духовной культуры русского прошлого, — более, чем кто-либо, был призван для синтетического построения всей русской культурной истории. Откуда же его самоограничение, его жертва?
Постараемся найти ответ в историософском кредо вступительных лекций. Здесь Ключевский развивает взгляд на историю как «предварительную ступень к социологии». Он ставит высшей целью историка открытие «законов», «закономерности», «механики исторической жизни». В другом месте он говорит «об анатомии и физиологии» общественной жизни и в «Боярской Думе» выставляет следующее утверждение: «Исторические тела рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы». Во всем этом мы узнаем влияние той новой науки, «социологии», которая в семидесятых годах складывалась, с величайшими притязаниями на универсальность, на Западе и в России. В России ее идейная диктатура в широких массах интеллигенции, сменившая диктатуру естествознания шестидесятых годов, была особенно суровой. Ключевский, как передовой человек своего времени, не избежал общего духовного поветрия. Конечно, он не был социологом, не был теоретиком вообще. «Разговоры, касавшиеся теории исторического процесса, его не воодушевляли», — вспоминает Богословский. Но он чувствовал себя обязанным оправдывать своюисторическую работу перед судом Социологии. Какое значение имеет «местная» (то есть национальная) история для познания общих исторических законов? «Научный интерес истории того или другого народа определяется количеством своеобразных, местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных эле-
==340
ментов общежития». Это своеобразие, конечно, получает свой смысл лишь из сравнения с параллельным развитием других местных культур. Само по себе оно малоинтересно. «Культурное значение местной истории сравнительно ничтожно». Вступление Ключевского настраивает нас к ожиданию сравнительно-исторического метода исследования. Ничуть не бывало. Ключевский избегает его даже там, где оно напрашивается само собой (аналогии с западным феодализмом, например). Предисловие составлялось для очищения совести. Историк в Ключевском был терроризирован социологией и делал вид, что принимает ее социальный заказ. Только ученик его, Рожков, уже на почве марксизма, сделал опыт «социологического» построения русской истории.
Однако от социологии нельзя было отделаться предисловием. Чтобы спасти «научность» истории, в духе своего времени, Ключевскому пришлось пожертвовать историей духовной культуры. Сама по себе духовная культура, казалось бы, допускает социологическое истолкование. Но для экономической или иной материалистической интерпретации духовной культуры Ключевский обладал слишком большой трезвостью и вкусом. Идеалистическая же социология возвращала назад к Гегелю, к его диалектике и «богословию», от которых Ключевский отталкивался. Будучи не в силах дать иное, кроме описательного, «идеографического», изображения духовной жизни, и не желая портить строгости эволюционных линий своего процесса иррациональностью голых культурных фактов, Ключевский отказался от половины своей темы. Нельзя сказать, чтобы оправдание этого приема у самого Ключевского было удовлетворительно. Не будучи материалистом и доктринером, он допускает в истории возможность творчества духовных сил: «человеческая личность, людское общежитие и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общество». Однако он не знает сам, что делать с личностью и особенно творимой ею духовной культурой. «А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, успехи знания и искусств, литература, духовные интересы. Идея становится историческим фактором, когда овладевает какой-нибудь практической силой, властью, народной массой или капиталом. Политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни». Это объяснение, читавшееся в первом издании, не особенно вразумительно. Если идеи обладают практической силой, почему они не имеют самостоятельного значения? Ключевский почувствовал неувязку и во втором издании заменил это объяснение другим, всем нам памятным: только методологически, в по-
==341
рядке изучения, общественные факты идут впереди духовной культуры.
Во внутренней противоречивости «социологического» введения, в неустойчивости самого текста сказалась драматическая борьба историка с духом своего времени, с его «социальным заказом». Этот заказ, конечно, не был внешне навязанным, но внутренне принятым. Тем не менее он был известной тяжестью, ярмом, которое влачил на себе историк-художник большой чуткости и широты ума, принужденный замалчивать в общем историческом курсе многие из своих заветных исторических идей.
Эти заветные мысли Ключевский любил высказывать не в академических, а в публичных чтениях, где чувствовал себя свободным от обязательной «научности». В них-то и вскрываются неожиданные противоречия в его исторической схеме — вернее, та тирания, с которой она организует его исторический опыт. В знаменитой актовой речи о преп. Сергии Ключевский говорит не только о религиозном, но и общественном и государственном значении Радонежского старца для Древней Руси. В своем курсе он не нашел ни одного слова для характеристики этого значения и даже для упоминания самого Сергия. В публичной речи о русской женщине Ключевский выражает свое твердое убеждение (даже «веру»), что русская женщина всеми своими гражданскими правами обязана влиянию Церкви. В курсе мы напрасно стали бы искать доказательств этого влияния. Но ведь это факты социального, а не чисто морального порядка. Они должны были бы найти свое место в социальной истории России. Историк, утверждавший не раз примат экономики над политикой, должен сознаться: «Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества и самыми мощными двигателями человеческого развития». Но это убеждение историка не отразилось в его историческом построении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: