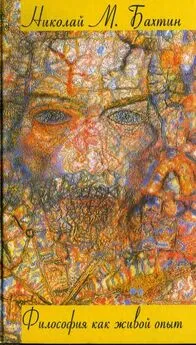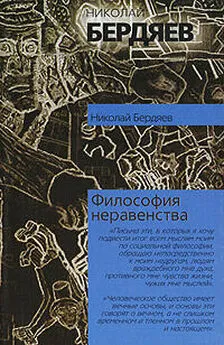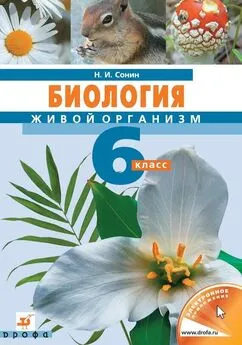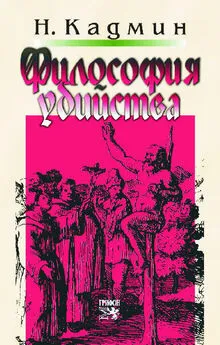Николай Бахтин - Философия как живой опыт
- Название:Философия как живой опыт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лабиринт
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87604-200-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Бахтин - Философия как живой опыт краткое содержание
В этой книге, где собраны философские, культурологические, филологические работы Николая Михайловича Бахтина (1894–1950), читателю открывается одно из самых трагичных мировоззрений в истории: Н. М. Бахтин описал духовный путь человечества как бесконечный поиск абсолютной свободы, с неизбежностью приводящий к обратному: к созданию и постоянному совершенствованию той системы духовного принуждения, каковой является, по Бахтину, человеческая культура.
Философия как живой опыт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можно установить a priori основные признаки поэзии, рассчитанной на слушателя: крайне отчетливые и резкие структурные линии; логический остов достаточно твердый, чтобы не быть поглощенным музыкой (именно потому, что ей дана здесь вся полнота реального звучания); устранение всего того, что не может обладать действительностью при слуховом восприятии; отсюда — неравномерная смысловая заполненность стихов, материал, распределенный массивными глыбами, моменты полутени и отдыха, стремительные подъемы и резко выделенные, ярко освещенные вершины — формулы. В такой поэзии музыка не может бояться логики, которой поэтому дана вся сила и вся острота (как напряженной диалектике трагических тонов), не позволяющая слову раствориться в стихии чистой, безудержной музыки.
Но все эти признаки, установленные a priori, не что иное, как реальные признаки античной поэзии.
Совершенно обратное наблюдаем мы в новой поэзии. Она рассчитана на читателя, и музыка поневоле должна оберегать себя здесь всеми средствами. Поэтому логический остов затушеван или упразднен, чтобы не заглушить этой, лишь мыслимой, музыки; структурные линии «смазаны», извилисты и капризны. Можно остановиться, замедлить, и оттого ритм — courte haieine [7] Короткого дыхания (фр.)
, и ритмические периоды резко отщелкиваются рифмой; отсюда же стремление к сплошной смысловой заполненности: всякая точка пути равно существенна, всякий эпитет должен быть значительным и определяющим («постоянный эпитет» был бы немыслим в такой поэзии). Это искусство тончайших узоров, которые надо рассматривать в лупу — внимательно, многократно и подолгу. В античной поэзии слушатель был властно вовлекаем в неодолимое течение динамического потока; в новой поэзии он сам, медленно и с усилием, вникает: она, застылая, раскрывается ему лишь в меру его собственной активности. Отсюда — «келейность» новой поэзии. Слуховая поэзия или, что то же, античная, — искусство с широко распахнутыми дверьми; новая — «работа на любителя»; двери ее узки и замкнуты: надо долго стучаться. Широкий жест здесь был бы смешон; старому пафосу — не место: он хочет полного голоса и спутал бы, изорвал бы паутинные узоры утонченной поэзии «для чтения про себя».
Но в реальном звучании, где все становится на свое место, где соотношение главного и второстепенного восстанавливается, — тончайший узор изобличает свой основной недочет: атомизм, отсутствие твердых линий и явственно выделенных доминант.
Заранее ясно, что при чтении вслух произведений новой поэзии неизбежна следующая дилемма: либо давать полноту выражения звуковым элементам (и тогда структура, логика, смысл — все тонет в звучании, поэзия, теряя свой указующий и предметный характер, становится ублюдочною музыкой); либо, чтобы восстановить должную пропорцию, искусственно умалять полноту музыкальной стихии (и тогда поэзия становится дурною прозой).
Таковы и в действительности два господствующих типа декламации, оба равно неприемлемые. Искать между ними третьего — бесполезно, просто потому, что новая поэзия создана не для слушателя. Но показателен тот факт, что в наши дни господствует именно первый тип декламации, и что здесь почти совсем отказались от искусственного восстановления нормальной пропорции путем умаления ее первого члена — музыки. Это указывает, что назревает потребность восстановить пропорцию по существу, что возможно, лишь если поэзия, всецело и до конца, станет искусством целостного слова.
Итак, «мыслимая» поэзия, умаляя звук, умаляла и смысл; и слово, в его двоякой сущности — звучащей и указующей, — медленно умирало. Подменив его ускользающим призраком и стараясь удержать призрак, — измельчали твердый остов логической структуры, отвергли начало строя и строгости. Так, через пресловутое «de la musique avant toute chose» [8] Музыки прежде всего (фр.; первая строка стихотворения Поля Верлена «Поэтическое искусство»).
, мы носили и дальше:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись.
[9] Из стихотворения «Silentium».
И подлинно, в современной русской поэзии (за немногими и мало показательными исключениями) все расползлось в пену и муть. Но самые крайние, якобы «чисто звуковые опыты», вплоть до «заумного языка» и нечленораздельных звучаний футуризма, предполагают забвение именно реального звучания и, в конечном счете, черпают всю свою силу в старой истине: «бумага все выдержит».
Отсюда только один выход: возвращение к поэзии как к искусству произносимого слова. Только здесь целостное слово — полно звучащее и властно определяющее — вновь станет подлинным материалом поэзии. Но это не только выход, это и путь — путь к искусству «с широко распахнутыми дверьми», то есть к новому классицизму.
Но можно ли надеяться, что русская поэзия вступит на этот путь? Не знаю, но дальше идти по старому пути, казалось бы, некуда… А положительные основания для надежды я нашел, как это ни странно, в смешной книжке профессора Сережникова, самоуверенно поучающего студисток о том, как надо читать стихи.
2. О формальном методе
Границы словесного искусства крайне неопределенны. И наука, и законодательство, и жизнь пользуются словом, оформляя его сообразно своим заданиям. Указать предел, за которым слово перестает быть художественным словом — теоретически затруднительно. Да и на практике мы далеко не всегда можем с определенностью отнести данное произведение к области художественного слова. Речь идет не только о тех случаях, когда мы нашу субъективную оценку данного произведения выражаем фигурально в суждениях вроде: «это уже не искусство» (здесь мы судим, оставаясь всецело на территории искусства и по его законам). Гораздо сложнее следующее явление: многие словесные произведения воспринимаются нами как безусловно художественные, и в то же время явно выходящие за пределы искусства, в другие, смежные области, напр., иные диалоги Платона, та или иная страница великого историка, «Заратустра» Ницше… Порою такие произведения принадлежат к величайшим, и это не позволяет нам определить их как ублюдочные, малопоказательные и потому ничем не мешающие явственному разграничению смежных областей. Нет, это явление, видимо, не случайное, и возможность подобного синкретизма коренится, несомненно, в самой природе слова.
Невозможно, конечно, ограничить область словесного искусства «по содержанию». С одной стороны, всякое «содержание» (в том неопределенном смысле, какой принято придавать этому слову), в принципе, может быть художественно оформлено. С другой стороны, содержание не только любого диалога Платона, но и многих романов Достоевского (которые ведь принято относить всецело к искусству) может быть развернуто, расчленено и интерпретировано в категориях чисто рациональных и в этой интерпретации не утратить ни ценности, ни убедительности (хотя и цельность и убедительность будет уже иного, умаленного, порядка).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: