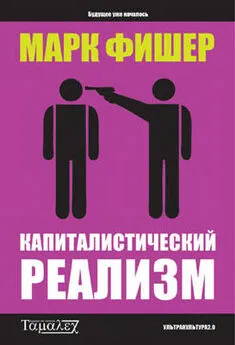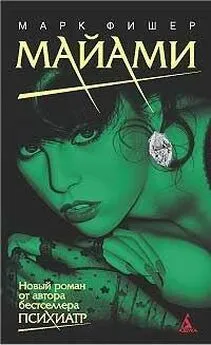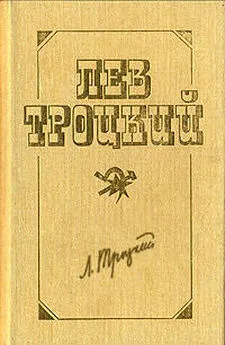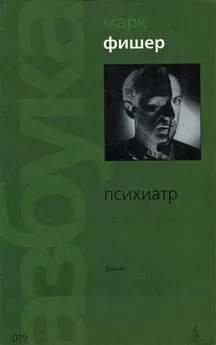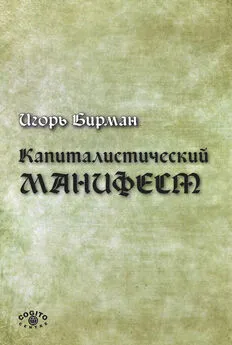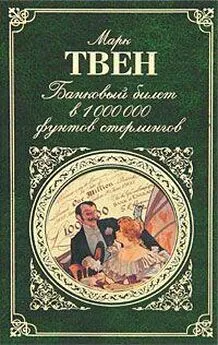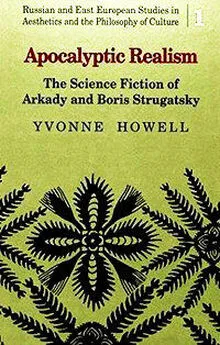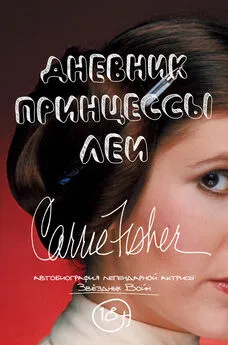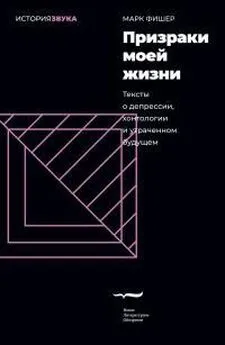Марк Фишер - Капиталистический реализм
- Название:Капиталистический реализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ультракультура 2.0
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Фишер - Капиталистический реализм краткое содержание
Проще представить себе конец света, чем конец капитализма. После 1989 года капитализм с гордостью представляет себя единственной реалистической политэкономической системой. И эту ситуацию банковский кризис 2008 года только усугубил. В своей книге Марк Фишер, преподаватель философии, известный публицист и ведущий популярного блога k-punk, подвергает анализу эволюцию и основные принципы живучей идеологической конструкции капиталистического реализма. Разбирая конкретные примеры из политики, кинематографа («Дитя человеческое», «идентификация Борна», «Суперняня») и литературы (тексты Урсулы Ле Гуин и Франца Кафки), он доказывает, что капиталистический реализм окрашивает все сферы современного образа жизни, и задается вопросом о том, как эту ситуацию можно изменить.
Капиталистический реализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такова ситуация с реально существующим социализмом, но как обстоят дела с реально существующим капитализмом? Один из способов понять «реализм» капиталистического реализма — обратиться к тезису об отказе от веры в большого Другого. Постмодернизм можно представить в качестве названия для комплекса кризисов, запущенных упадком веры в большого Другого, что предполагается знаменитым определением состояния постмодерна, данного Лиотаром, — то есть «недоверием к метанарративам». Конечно, Джеймисон согласился бы с тем, что «недоверие к метанарративам» — это выражение «культурной логики позднего капитализма», следствие переключение на пост-фордистский способ накопления капитала. Ник Лэнд живописует одну из наиболее эйфорических картин «постмодернистской переплавки культуры в экономику». В работе Лэнда кибернетически перестроенная невидимая рука все больше и больше устраняет централизованную государственную власть. В текстах Лэнда 1990-х годов был выполнен синтез кибернетики, теории комплексности, киберпанка и неолиберализма, целью которого было создание некоей картины глобального капиталистического искусственного интеллекта, представимого как обширная, гибкая, бесконечно дробящаяся система, отменившая нужду в человеческом волеизъявлении. В своем манифесте нелинейного, децентрализованного Капитала под названием «Переплавка» («Meltdown») Лэнд упоминает о «массово распределенной матрично-сетевой тенденции к выключению зависимых от ПЗУ командных процессоров, поддерживающих все макро- и микроуправленческие структуры, объединенные на глобальном уровне в качестве Системы человеческой безопасности». Это капитализм как все сокрушающее Реальное, в котором (вирусные, цифровые) сигналы циркулируют в самоподдерживающихся сетях, обходящих препоны Символического и потому не требующих наличия большого Другого как гаранта. Это Капитал как «Неименуемая вещь», о которой говорят Делёз и Гваттари, но в этом случае она лишена сил ретерриториализации и антипроизводства, которые, по их мысли, конститутивны для капитализма. Одна из проблем позиции Лэнда совпадает с тем, что в ней наиболее интересно: она постулирует «чистый» капитализм, который затормаживается и блокируется только внешними, а не внутренними элементами (по логике Лэнда, такие элементы являются атавизмами, которые, по всей видимости, будут поглощены и усвоены Капиталом). Однако капитализм нельзя подобным образом «очистить»: устраните силы антипроизводства, и капитализм исчезнет вместе с ними. Точно так же нет и поступательного движения к «обнажению» капитализма, нет постепенного разоблачения Капитала в качестве того, чем он «реально» является, то есть в качестве чего-то хищнического, безразличного, нечеловеческого. Напротив, существенная роль «бестелесных трансформаций», осуществляемых в капитализме пиаром, брендингом и рекламой, предполагает, что капитализм, чтобы действительно отыгрывать свою хищническую природу, должен полагаться на различные формы маскировки. Реально существующий капитализм отмечен тем же разделением, которое характеризовало реально существующий социализм, то есть разрывом между официальной культурой, с одной стороны, в которой капиталистические предприятия представлены в качестве социально ответственных и заботливых, и всеобщим пониманием, с другой стороны, того, что на самом деле компании коррумпированы, безжалостны и т. д. Другими словами, капиталистический постмодерн не настолько недоверчив, как может показаться, и этот факт, как известно, обнаружил ювелир Джеральд Ратнер, когда он отразился на его кошельке. Ратнер как раз попытался обойти Символическое и «сказать все как есть», охарактеризовав в ходе послеобеденной беседы недорогую бижутерию, которой торговали его магазины, как «дерьмо». Однако последствия того, что Ратнер высказал это суждение открыто, не заставили себя ждать, причем оказались весьма серьезными: капитализация его компании снизилась на 500 миллионов фунтов стерлингов, а сам он потерял работу. Возможно, клиенты и раньше знали, что ювелирные изделия Ратнера низкого качества, однако большой Другой этого не знал. И как только он это узнал, компанию постиг крах.
Обычный постмодернизм решал «кризисы символической эффективности» в гораздо менее интенсивной манере, чем Ник Лэнд, то есть через метауровневую тревожность относительно функции автора, а также в телепрограммах или фильмах, в которых выставлялся напоказ механизм их собственного производства, так что они рефлексивно включают в себя обсуждение собственного товарного статуса. Однако приписываемые постмодернизму жесты демистификации обнаруживают не столько некую утонченность, сколько определенную наивность, убеждение в том, что раньше, в прошлом, были другие, которые на самом деле верили в Символическое. В действительности же, «символическая эффективность», разумеется, достигается именно за счет поддержки четкого различия между материально-эмпирической причинностью и иным, бестелесным порядком причин, свойственным Символическому. Жижек приводит пример судьи:
Мне прекрасно известно, что вещи именно таковы, как я их вижу, что этот человек — коррумпированный слабак, но, тем не менее, я отношусь к нему с уважением, поскольку он облачен эмблемами судьи, поэтому, когда он говорит, на самом деле сам Закон говорит через него. [Так что характерное для постмодернизма]…циническое сведение всего к реальности <���…> попадает впросак: когда судья говорит, в определенном смысле истины больше в его словах (словах Института закона), чем в непосредственной реальности личности судьи, то есть если мы ограничиваемся только тем, что видим, мы упускаем самое важное. Именно этот парадокс Лакан имел в виду, предложив формулу «les non-dupes errent»: те, кто не позволяет себе попасться на удочку символического обмана/фикции, кто продолжает верить только своим глазам, заблуждаются в наибольшей степени. Циник, «верящий только своим глазам», не способен заметить действие символической фикции и то, как она структурирует наш опыт реальности.
Значительная часть работ Бодрийяра является комментарием к тому же эффекту — тому, как разрушение Символического ведет не к прямой встрече с Реальным, а к некоему кровотечению Реального. По Бодрийяру, такие феномены, как документалистика в стиле «мухи на стене» и опросы политических мнений, — которые претендуют на представление реальности в неопосредованном виде, — всегда будут порождать неразрешимую дилемму. Влияло ли присутствие камер на тех, кого снимали? Повлияет ли публикация результатов опросов на будущее поведение избирателей? Подобные вопросы оказались неразрешимыми, и потому реальность всегда будет уклоняться: в тот самый момент, когда казалось, что она схватывается в самом что ни на есть сыром виде, она превращалась в то, что Бодрийяр называл «гиперреальностью», правда, этот неологизм часто понимали неправильно. Наиболее успешные из телевизионных «риэлити-шоу», зловеще повторяя выкладки Бодрийяра, пришли в итоге к слиянию документалистики в жанре «мухи на стене» и интерактивного голосования. В подобных шоу существует два уровня «реальности» — непосредственное поведение участников «реальной жизни» на экране и непредсказуемые реакции зрителей, сидящих дома, которые в свою очередь влияют на поведение участников шоу. В то же время риэлити-телевидение постоянно преследуют вопросы вымысла и иллюзии: не действуют ли участники так, что подавляют другие стороны своей личности, чтобы показаться нам, то есть зрителям, более привлекательными? Точно ли регистрируются голоса зрителей или же как-то подправляются? Лозунг телевизионного шоу «Big Brother» — «Решаете вы» — точно схватывает тот способ управления за счет обратной связи, который, согласно Бодрийяру, заместил старые централизованные формы власти. Мы сами занимаем пустое место власти, когда звоним по телефону и отправляем по SMS наши ответы. Телевизионный «Big Brother» пришел на смену «Большому брату» Оруэлла. Мы, зрители, не подчинены власти, приходящей откуда-то извне. Скорее мы включены в контур контроля, для которого наши желания и предпочтения являются единственным мандатом, однако эти желания и предпочтения возвращаются нам уже не в качестве наших, а как желания большого Другого. Ясно, что такие контуры не ограничены телевидением: сегодня кибернетические системы обратной связи (фокус-группы, демографические исследования) являются составной частью всех «служб», включая образование и правительство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: