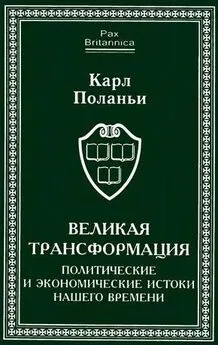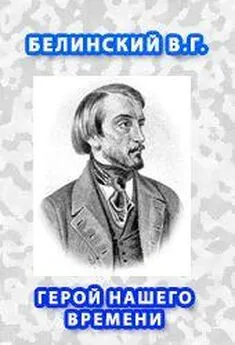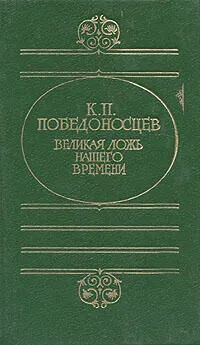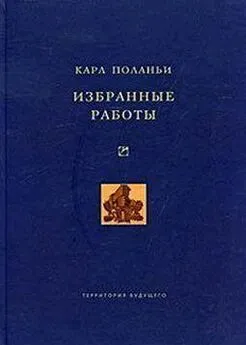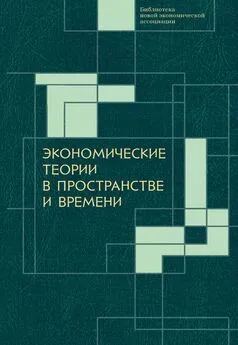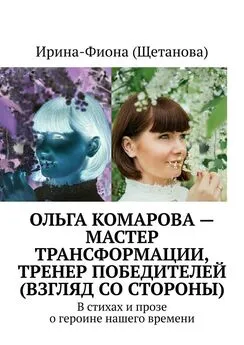Карл Поланьи - Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени
- Название:Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89329-532-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Поланьи - Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени краткое содержание
Впервые публикуется русский перевод фундаментального исследования известного англо-венгерского социолога, экономиста и обществоведа Карла Поланьи, посвященного узловым проблемам формирования индустриального общества.
Для социологов, экономистов и историков, а также всех тех, кто интересуется историей европейского общества нового времени.
http://fb2.traumlibrary.net
Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Большинство туземных обществ, пишет Л. Р. Мэр, переживает ныне процесс стремительной и насильственной трансформации, сравнить который можно лишь с бурными потрясениями революции. Пришельцы, несомненно, преследуют экономические цели, и крах первобытного общества нередко бывает следствием уничтожения его экономических институтов, и все же ключевым моментом является здесь то, что туземная культура оказывается неспособной ассимилировать новые экономические институты и по этой же причине распадается и гибнет, причем никакая упорядоченная система ценностей не приходит ей на смену.
Среди разрушительных тенденций, которые несет с собой западная цивилизация, на первом месте стоит «мир на обширной территории»: он подрывает основы «родового строя, власти старейшин, военной подготовки молодежи и делает практически невозможным передвижения отдельных родов или племен» (Thurnwald. Black and White in East Africa; The Fabric of a Civilization. 1935. P. 394). «Очевидно, война придавала жизни туземца особую пряность и остроту, которых так недостает в нынешние мирные времена…» Запрет воевать приводит к уменьшению населения, ведь общее количество жертв в войнах туземцев было крайне незначительным, тогда как отсутствие войн означает утрату поднимавших «жизненный тонус» племени обычаев и ритуалов и, как следствие этой утраты, — нравственно разлагающую тоску и тупую апатию деревенского прозябания (F. Е. Williams. Depopulation of the Suan District. 1933. «Anthropology» Report, No. 13. P. 43). Сравните с этим «бодрость, энергию, эмоциональный подъем», характерные для жизни туземца в традиционной среде (Goldenweiser. Loose Ends. P. 99).
Реальная опасность, по словам Гольденвейзера, это опасность оказаться в «пустом пространстве между двумя культурами» (Goldenweiser. Anthropology. 1937. P. 429). «Старые культуры рушатся, а взамен их не появляется никаких новых ориентиров и норм» ( Thurnwald. Black and White. P. 111).
«Стремление сохранить общество, в котором накопление материальных ценностей считается асоциальным поведением, и при этом интегрировать его в современную белую культуру означает попытку соединить две несовместимые институциональные системы» (Wissel in Introduction to M. Mead, The Changing Culture of an Indian Tribe. 1937). «Носители пришлой культуры могут преуспеть в уничтожении туземной культуры, но они не способны ни уничтожить, ни ассимилировать ее носителей» (Pitt, Rivers. «The Effect on Native Races of Contact With European Civilization» In Man. Vol. XXVII. 1927). Или, если воспользоваться меткими словами Лессера о других жертвах индустриальной цивилизации: «Со стадии культурной зрелости в качестве индейцев поуни они были низведены до уровня культурного младенчества белых людей» (The Pawnee Ghost Dance Hand Came. P. 44).
Причиной столь жалкого состояния вовсе не является экономическая эксплуатация в общепринятом ее понимании, т. е. в смысле экономических выгод, которые получает одна сторона за счет другой; хотя оно, это состояние, конечно же, тесно связано с переменами в экономических условиях, относящимися к собственности на землю, войне, браку и т. д. и затрагивающими широкий круг социальных привычек, обычаев и всякого рода традиций. Когда на редко заселенных территориях Западной Африки принудительно вводится денежная экономика, отнюдь не низкий уровень заработной платы становится причиной того, что туземцы «не могут купить продукты питания взамен тому, что уже не выращивают они сами, ибо никто другой также не производит излишки продовольствия для продажи туземцам» (Mair. An African People in the Twentieth Century. 1934. P. 5). Жизненный уклад последних предполагает иную шкалу ценностей; туземец бережлив и в то же время совершенно не способен мыслить рыночными категориями. «Когда на рынке избыток определенного товара, туземец будет запрашивать за него ту же цену, что и в период его нехватки; при этом он готов отправиться в далекий путь, чтобы ценой значительных затрат времени и сил сэкономить мизерную сумму на своих покупках» (Mary Н. Kingsley. West African Studies. P. 339). Рост заработной платы нередко влечет за собой падение интенсивности труда. Рассказывают, что когда индейцам племени сапотек в Техуантепеке начали платить 50 сентаво в день вместо 25, они стали работать в два раза хуже. Подобный парадокс был довольно распространенным явлением и на раннем этапе промышленной революции в Англии.
Такой экономический показатель, как динамика населения, помогает нам ничуть не больше, чем данные об уровне заработной платы. Гольденвейзер подтверждает сделанное в Меланезии знаменитое наблюдение Риверса: туземцы, лишенные своей традиционной культуры, «умирают от скуки». А. Ф. Э. Уильяме (миссионер, работавший в этом регионе) пишет, что «влияние психологического фактора на уровень смертности» объяснить не так уж трудно. «Многие наблюдатели отмечали ту поразительную легкость, или равнодушную готовность, с которой туземцы встречают смерть». «То, что прежние интересы и занятия туземца оказываются теперь под запретом, пагубно влияет на его душевное состояние. В результате сопротивляемость организма падает, и любая болезнь может быстро стать для туземца роковой» (Op. cit. Р. 43). Это никак не связано с действием экономической нужды. «Таким образом, чрезвычайно высокий уровень естественного прироста населения может служить симптомом как жизнеспособности культуры, так и ее деградации» (Frank Lorimer. Observations on the Trend of Indian Population in the United States. P. 11).
Процесс культурной деградации можно остановить только социальными мерами, которые несоизмеримы с чисто экономическими показателями уровня жизни; подобными мерами могут стать восстановление племенных форм землепользования или изоляция данного общества от влияния капиталистических рыночных методов. «Единственным смертельным ударом стало отделение индейца от его земли», — писал в 1942 г. Джон Колльер. Всеобщий акт о земельных участках 1887 г. «индивидуализировал» владение землей у индейцев; вызванный им распад традиционной культуры привел к тому, что индейцы потеряли примерно три четверти, или девяносто миллионов акров своих земель. Акт о реорганизации 1934 г. восстановил племенную систему землепользование и спас индейское общество — причем достигнуто это было через возрождение традиционной культуры.
То же самое происходит в Африке. Формы землевладения всюду играют ключевую роль, ибо именно на них самым прямым и непосредственным образом основывается вся социальная организация. То, в чем мы видим экономические конфликты — высокие налоги и ренты, низкая заработная плата, — почти всегда представляет собой замаскированные формы давления с целью принудить туземцев к отказу от традиционной культуры и таким образом заставить их приспосабливаться к методам рыночной экономики, т. е. работать за плату и приобретать необходимые товары на рынке. В ходе подобного процесса некоторые туземные племена, например кафры, а также те, кто переселился в города, полностью утратили унаследованные от предков добродетели, превратившись в жалкую и беспомощную толпу, в стадо «наполовину прирученных животных». Теперь мы встречаем среди них бездельников, воров, попрошаек и даже проституток (занятие, совершенно неведомое им прежде), и невозможно найти для них более близкую аналогию, чем масса пауперизированного населения Англии 1795–1834 гг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: