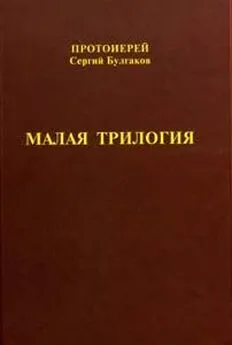Сергий Булгаков - Философия имени
- Название:Философия имени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергий Булгаков - Философия имени краткое содержание
Оп.: Сергей Булгаков. Сочинения в двух томах. Том второй. Философия имени. Икона и иконопочитание. – М: Искусство; СПб: Инапресс, 1999. – с. 13-175.
[В данной публикации отсутствуют главы Софиологическое уразумение догмата об имени Иисусовом. Примечания. Экскурсы; пропали примечания; пропали некирилические тексты]
Философия имени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, на общий вопрос о множественности языков на основании сказанного можно ответить так, что эта множественность нисколько не отменяет онтологического единства языка как голоса единого мира в едином человеке, но в то же время язык реализуется индивидуально в соответствии многочисленному строению человечества, являющего единство во многообразии; аналогией здесь являются разные органы и центры чувств в едином человеческом организме, члены разного пола и возраста, общественности, характера в одной человеческой семье. Но оно становится многоязычием, замутнением прозрачной глубины звука, вавилонским смешением лишь в связи с общим обособлением и разъединением человечества, его состоянием во вражде и раздоре; однако и это многоязычие принципиально, в основе уже преодолено боговоплощением и совершившейся Пятидесятницей. И в этом смысле многоязычие, точнее, взаимная непроницаемость и непонятность языков (хотя не безусловная, а лишь относительная) выражает не столько природу языков, сколько состояние человечества. И как состояние, имеющее основу в недолжном – разъединении, есть психологизм. Онтологическое единство затемняется психологизмом, т. е. фактическим употреблением языка. И если мы посмотрим, как на наших глазах возникают постепенными и сначала нечувствительными изменениями диалекты и наречия, становящиеся новой преградой, тогда становится ясно, что возможность этого многоязычия заложена в состоянии человека и есть психологизм, мутное стекло, преломляющая призма.
II. РЕЧЬ И СЛОВО
1. Части речи (имя, глагол, местоимение)
Слово никогда не существует в обособленности, иначе оно перестало бы быть словом и стало бы случайным знаком. Как космическое значение слова его символическая основа есть лишь некоторая, не имеющая измерений, точка в мировом всё, и существует только в предположении этого всё и с ним связана как отправная точка бесконечных мироявлений (космофаний). Также языковое его употребление мыслимо только в речи, в живом и непрестанно текущем контексте слов, смыслов, речений. Можно сказать, что одна, взятая сама по себе и обособленная от всего, краска не существует (ибо что может означать абсолютно зеленое, если совершенно отмыслить прочь и устранить всю радугу красок?). Так же и одна нота, вне отношения к октаве или вообще целому строю и ладу, не существует (ибо что же значит абсолютное, безотносительное до, когда оно существует в отношении ко всем другим нотам?). Так же точно и каждое слово-символ замирает и уничтожается вне речи, ибо слово звучит в нас не обособленно, но в языке; слова смотрятся в другие слова, говорятся в них или через них, как в системе бесконечно отражающих друг друга зеркал. И эту множественность слова улавливает гений языка, когда называет словом не отдельное слово, не отдельные слова, но всю жизнь слова, осуществляемую в словесной стихии. Слово живо, есть живой смысл лишь в речи, и обособленное слово просто не существует, есть абстракция, но в таком же смысле, в каком не существует обособленного сердца или легких, или других органов живого тела. Поэтому, хотя первооснову речи, космические ее корни мы искали и нашли в символах-словах, однако мировое всё никогда не говорит о себе отдельным символом или раздробленной сигнализацией, но всегда символами, между собою связанными, сливающимися, переливающимися в своих вспышках. Словом, выражает себя не статическое всё, состоящее из механической суммы a+b+c+d+... =? , причем каждому из слагаемых соответствовало бы отдельное слово-смысл, но всегда актуализирующаяся, динамическая всейность, которая говорит о себе всегда связною речью. Поэтому ????? – есть не только слово, мысль, но и связь вещей. Человеческая речь и есть эта непрестанно выражаемая словесной символикой мировая связь. ?????, – слово есть ????? – мысль, есть ????? – речь как мысль человека о мире, или самомышление мира в человеке и через человека в микрокосме. Речь, лишенная мысли, не есть речь в такой степени, в какой случайное соединение звуков, ничего не означающее, не есть слово. Случайный набор слов, хотя каждое из них в отдельности и не лишено значения, не образует речи. Если мы из типографских касс наудачу возьмем несколько букв и соединим их, то не получим слова, хотя его и можно было составить из этих слов. Если мы рассыпем набор и перемешаем слова, у нас не будет речи, а ее растерзанный труп, хотя она и может составиться из этих слов. В этом смысле можно говорить вместе с Вундтом, что не только корень есть абстракция, но и отдельные слова суть абстракции, существует только предложение, содержащее в себе связную мысль*. Можно даже пойти еще дальше и утверждать, что и предложение есть абстракция, а существует лишь целое мысли, рассуждение, как в этом можно наглядно убедиться, если перепутать порядок фраз в любом произведении. И конца этому расширению понятия о речи-мысли не может быть, в сущности, положено, поскольку все находится в мыслительной связи и соответствии и должно быть вплетено в единый контекст мировой мысли, или мысли человека о мире. И это естественно, потому что основой речи и ее предметом является мировое всё, которое не имеет границ и представляет собой в этом смысле дурную бесконечность, не имеющую конца в «дискурсивном»** рассуждении***.
Ввиду этого нам необходимо установить общую схему строения речи, или тех отношений, в которые становятся здесь слова, тех одежд или оболочек, в которые они при этом облекаются, помимо своего прямого смысла, – понять природу слов как «частей речи», конечно, в онтологическом значении последних. Слова, символы смыслов, помимо этого своего прямого значения, ведь могут еще получить косвенное определение от своего места в речи, от особого смысла, получаемого ими не как таковыми, в своей собственной окраске, но и по связи целого, в контексте. Для установления этого контекста надо остановить внимание на каком-нибудь отрывке, который достаточно велик, чтобы в нем уже обозначалось функциональное строение речи, чтобы он представлял собой законченный, в себе живущий смысл. Таковым обычно является грамматическое предложение, или некоторый законченный элемент смысла31). Различаются обычно в грамматике части речи и части предложения, причем учение о первых относится к этимологии, а о вторых – к синтаксису. Эти деления, конечно, условные и «прагматические», и во многих пунктах они совпадают между собою: знание частей речи необходимо для понимания строения предложения, и наоборот, определение частей речи даже невозможно вне предложения. (Так как разрез, в котором ведется наш анализ, не совсем совпадает с обычным грамматическим делением, нам приходится до известной степени отвлекаться от последнего, хотя, по существу, дело идет о том же самом.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: