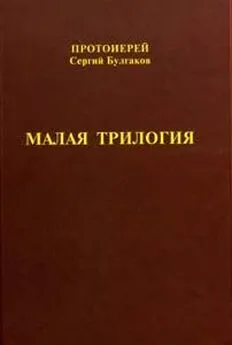Сергий Булгаков - Философия имени
- Название:Философия имени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергий Булгаков - Философия имени краткое содержание
Оп.: Сергей Булгаков. Сочинения в двух томах. Том второй. Философия имени. Икона и иконопочитание. – М: Искусство; СПб: Инапресс, 1999. – с. 13-175.
[В данной публикации отсутствуют главы Софиологическое уразумение догмата об имени Иисусовом. Примечания. Экскурсы; пропали примечания; пропали некирилические тексты]
Философия имени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для нашей задачи совсем не нужно разбирать эти индивидуальные свойства языков, но достаточно указать общую связь между запросами гносеологии и ответами грамматики, посмотреть на грамматику как и на конкретную гносеологию72). Руководящими для нас будут свойства греко-латинской грамматики, к которой более или менее приближаются одни из новоевропейских языков (как русский и вообще славянские, итальянский или немецкий) или же от которой более или менее удаляются, однако, как от своего первообраза, другие (французский или английский).
Начнем с того, что у Канта обозначено как «трансцендентальная эстетика», исследующая время и пространство как формы опыта и «чистого воззрения» (reine Anschauung). Можно совсем не разделять общих философских взглядов Канта вообще, и на время и пространство, в частности, и тем не менее признать вместе с ним, что и то и другое, какова бы ни была их природа сама по себе, составляет всеобщую форму нашего чувственного опыта и внутреннего постижения. Пространственность есть общее свойство всего чувственного опыта, нашего «внешнего» (по отношению к внутренним процессам сознания) мира, временность есть такое же свойство всего не только внешнего, но и внутреннего мира. Это есть неотъемлемое качество всего, нами познаваемого. С точки зрения языка, как показано выше, познание, совершающееся в суждениях, сводится к наименованию. Последнее держится онтологически логической связкой есть, наличествующей или подразумеваемой или скрытой в глаголах; как таковое оно имеет только одну значимость, «gilt», вне отношения к пространству и времени: лист зелен, море шумит и под. Кант различает здесь суждение восприятия (Wahrnehmungsurteil) от суждения опыта (Erfahrungsurteil). И то и другое73) имеет эмпирический характер, происходит из опыта, но первое есть чисто субъективное констатирование данного состояния чувств, второе же имеет всеобще-обязательный характер необходимости, субъект связан с предикатом понятием a priori, причинною связью. В этом первоначальном, имеющем, однако, решающее значение для Канта различении роковым образом и сказывается его небрежение относительно языка. Суждение: здесь жарко, или: комната тепла, даже просто: скучно, весело, – они для него имеют сплошь субъективную природу (Wahrnehmungsurteile). Однако и для него должен бы возникнуть вопрос о том, каким же образом субъективное может становиться объективным, т. е. всеобщим, всеобще ведомым через язык? Ведь, пока я испытываю скуку, она остается как мое субъективное состояние, как психологизм. Но с того момента, как я во всеуслышание произнес или написал: мне скучно, – мое субъективное состояние получило силу факта, принудительно вошло во все сознания, стало его идеальным содержанием. Кант решающий признак видит в категории a priori, в частности, в категории причинности. Но трудность вопроса вовсе не в том: почему же «мне грустно» есть Wahrnehmungsurteil, а «мне грустно потому что я тебя люблю», возводящее в квадрат эту субъективность, будет Erfahrungsurteil, обладающее, в отличие от первого, Allgemeingiltigkeit*. Очевидно, разница, в которой Кант видит решающий признак объективности, именно, связь необходимости, категория причинности, относится уже к частностям содержания, может быть устанавливаема критикой этого суждения со стороны содержания, а не формальными категориями, не гносеологически. Гносеологический же вопрос здесь мог бы заключаться не там, где его видит Кант, – в отличии суждений по содержанию, но в самой возможности Wahrnehmungsurteile, ибо как Urteile они все-таки отличаются какою-то объективностью, могут быть сообщены, стать содержанием всеобщего сознания не меньше, чем самое что ни на есть «опытное суждение» науки. Здесь-то и оказывается, что Кант видит первоэлемент мысли совсем не там, где надо: он ищет его в категории, причем огромное, неопределенное количество суждений, или мыслей, остается вне его категорий и, стало, быть и вне мышления, а трудность вопроса заключается в возможности всякого суждения вообще, какова бы ни была его научная ценность. Кант в качестве первого ставит вопрос: wie ist die Erfahrung moglich?** – и сюда он подставляет сложное, спорное, неточное определение, где каждый элемент возбуждает сомнения и вопрос: как возможны синтетические суждения a priori? Между тем надо было бы вперед себя спросить: как возможно всякое суждение, в чем сила суждения – оно же и предложение, – которое в качестве готового и без дальнейшего анализа уже понятного лежит в основе всего познания? В чем сила суждения или грамматического предложения, что такое именование, которое совершается в каждом суждении? Мимо этого основного и решающего вопроса прошел Кант, не заметив здесь проблемы, вследствие этого вся его дальнейшая проблематика получила извращенный характер. В частности, это относится и к противопоставлению Wahrnehmungs и Erfahrungsurteile. Кант здесь увлекся различным содержанием суждений, из которых одно говорит о состоянии, другое о вещах, но он не принял во внимание, что всякое, даже самое субъективное состояние, о котором рассказано словом, облечено в суждение, есть уже мысль, значимость, в своем роде столь же твердокаменная, как и любое Erfahrungsurteil. Allgemeingiltkeit для мысли, знание состоит совсем не в категории a priori, которую натягивает во что бы то ни стало Кант, но в слове, ибо слово обладает значимостью, оно есть не «понятие», выше которого не знает Кант, но то, что выше, ибо реальней, понятия, идея. Я говорю: «скучно». Тем самым я осуществляю акт мысли-знания в суждении-предложении, ибо в действительности я говорю: «я есмь скучающий». Между онтологической точкой я, тверже которой ничего не может быть для мысли (даже и для Канта), установляется непреложная связь есть, агглютинирующая к этому субъекту идею скуки. В суждении «скучно», как бы ни было оно бедно или жалко по содержанию (это вопрос другой), осуществлены непреложные связи, явлена та же сила мысли, суждения, именования, как и в суждении, содержащем законы Ньютона. Кант этого не замечает и не принимает, и поэтому должен искать объективные основы мысли уже в дальнейших второстепенных и производных ее квалификациях, какими являются категории. Итак, в суждении74) есть элемент, не только вневременный и внепространственный, но и вообще представляющий собой чистую мысленность. Это – связка, есть, предикативность; и есть элемент безусловно конкретный и объективный, это – подлежащее, онтологический центр. Напротив, в сказуемом имеется место для конкретизации в смысле кантовской «трансцендентальной эстетики».
Пространственность и временность суть самые общие определения бытия, а пространство и время суть наши созерцания, которые окрашивают всю нашу мысль и познавание. И мы не можем сомневаться, что в языке, реализующем нашу конкретную мысль, мы найдем разработанную и развитую форму для выражения и того и другого. И, действительно, язык имеет богатейшие средства для выражения пространственности и временности в их разных оттенках: для этого у него есть склонение и спряжение как основные средства; к этому присоединяются еще, в качестве вспомогательных, разные части речи: предлог, это словесное волшебство, налагающее печать места и времени и на существительное и на глагол, наречие, прилагательное. Средства языка, в общем, здесь двояки: с одной стороны, он располагает более или менее обширными запасами слов, выражающих по своему значению пространство и время в разных смыслах, но с другой, он имеет формальные средства в виде флексий или вообще «семантических единиц», которыми он любому изменяемому слову может придать характеристику пространства или временности, и это представляет особенный принципиальный интерес. Такую роль именно и исполняют некоторыми своими тонами склонение и спряжение. Надо заранее сговориться, что гносеологические их функции, как отчасти выяснится ниже, еще шире указанных, но, в числе других, они обслуживают и эти потребности «трансцендентальной эстетики». Чрез них пространственность и временность, сознательно или бессознательно, проникают всю нашу речь и мысль, настолько, что мы не можем их отмыслить, не можем от них освободиться, даже если хотим, п. ч. язык могущественнее наших усилий абстракции и там, где мы хотим устранить всякую конкретность и добиться наибольшей «чистоты», язык смеется над нами (и, конечно, заслуженно). Падеж (casus, , по обычному определению, указывает отношение предмета к действию, к другому предмету и проч. Это формальное, и, конечно, ничего не говорящее определение свидетельствует лишь о сложности, обширности, а вместе с тем необыкновенной содержательности и значительности мыслительного и словесного богатства, иногда прямо роскоши, какую мы имеем в этом всем привычном и порядком-таки надоевшем еще на школьной скамье склонении. Вследствие привычности мы перестали замечать, какое чудо мысли по тонкости и богатству мы здесь имеем. В числе этих оттенков мы здесь имеем, правда, не во всех языках в обособленном виде, особый местный падеж, который в раннем состоянии индо-германских языков развертывался даже в целую серию местных падежей: casus – ablativus, elativus, illativus, adessivus, superessivus, inessivus, prosecutivus. He во всех языках имеются эти падежи, но в таком случае они заменяются местными предлогами, которые могут выразить, в соединении с существительным, стоящим в соответственном падеже, любой оттенок пространственности. Всякое бытие, выражающееся в имени существительном, может быть проецировано на экране пространственности во всяких соединениях. Конечно, фактически не все языки одинаково выработаны и гибки для этой цели и употребляют одинаково простые средства. Однако, в общем, можно сказать, что помощью падежной флексии и предлога могут быть выражаемы всевозможные оттенки пространственности. Мысль становится пространственной. То, для чего Кант измышлял неуклюжие и в высшей степени сомнительные «схемы чистого рассудка», о чем он хлопотал с этим своим «схематизмом», язык с гениальной верностью инстинкта разрешает – в склонении (ибо и употребление местных и иных предлогов относится в широком смысле к склонению, – да и фактически в языках «аналитических» или склоняющихся по этому типу, как французский и английский, флексивное склонение заменяется употреблением предлогов или, что то же, предлог играет роль флексии). Можно рассматривать предлоги как иррегулярные флексии, которые лишь тем отличаются от обычных, что имеют кроме того и самостоятельное, хотя, впрочем, тоже весьма неполное существование. Разные оттенки пространственности предлоги придают не только существительным или прилагательным, вообще склоняемым частям речи, но и глаголам – в качестве приставок. Здесь роль предлогов для выражения пространственности по-своему столь же велика, как и в склонении. Было бы необыкновенно поучительно подвергнуть такому гносеологически-грамматическому анализу, хотя бы для какого-либо одного языка, средства для выражения «обстоятельства места» или пространственности, – какие чудесные богатства открылись бы перед умственным взором. Самое же главное – это богатство есть такое громовое свидетельство относительно пространственной окрашенности нашей мысли (каковая, конечно, издревле и замечалась), что нужно лишь умело дешифрировать эти показания конкретной гносеологии – грамматики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: