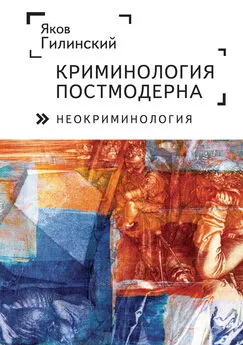Перри Андерсен - Истоки постмодерна
- Название:Истоки постмодерна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Территория будущего
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перри Андерсен - Истоки постмодерна краткое содержание
В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия «постмодерн». Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна. Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, «Истоки постмодерна» рассматривают ее «последействия» в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о «конце искусства» и о судьбе политики в мире постмодерна.
Истоки постмодерна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, сами невосприимчивые к образу, эти машины изливают такие потоки образов, что с их объемом не может соперничать никакое искусство. Определяющую техническую среду постмодерна конституирует эта «Ниагара визуальной трескотни» 8 . Распространенность, начиная с 70-х годов, вторичных механизмов и установок в эстетических практиках можно объяснить только этой первичной реальностью. Но она, конечно, является не просто потоком образов, но и прежде всего потоком сообщений. Маринетти или Татлин могли создать идеологию на основании техники, но большинство машин сами по себе могли мало что сказать. Эти новые приборы, напротив, бесконечно эмоциональны в своей передаче дискурсов, которые являются тотальной идеологией в самом прямом смысле этого слова. Интеллектуальная атмосфера постмодерна (скорее докса, чем искусство) заимствует большинство своих импульсов из высокого давления этой сферы. Ибо постмодерн есть также и это: показатель критического изменения в отношениях между развитыми технологиями и воображаемым масс.
Третья координата новой ситуации лежит, несомненно, в политических изменениях эпохи. Начавшаяся после 1947 г. холодная война заморозила стратегические границы и охладила все революционные надежды в Европе. В Америке рабочее движение было нейтрализовано, а левые подвергались преследованиям. За послевоенной стабилизацией последовал самый быстрый международный рост за всю историю капитализма. Атлантический порядок 50-х, заявивший о конце идеологии, казалось, оставил политический мир 20-х и 30-х в далеком прошлом. Ветер революции, некогда надувавший паруса авангарда, стих. Именно для этого периода, когда большинство из великих экспериментов казались завершенными, стало типичным использовать термин «модерн» в качестве всеобъемлющего для обозначения канона классических произведений, на которые равнялись современные критики.
Тем не менее видимость полной закрытости политических горизонтов на Западе была в течение всего этого периода обманчивой. В континентальной Европе массовые коммунистические партии во Франции и Италии (и подпольные в Испании, Португалии и Греции) отказывались примиряться с существующим порядком. Не важно, насколько умеренной была их тактика: само их существование действовало как «своего рода мнемонический механизм, сохраняющий место на страницах истории» для возрождения более радикальных стремлений 9 . В СССР после смерти Сталина были запущены процессы реформ, которые в период правления Хрущева, казалось, вели к менее репрессивной и более интернационалистской советской модели, что скорее вдохновляло, нежели разочаровывало революционные движения по всему миру. В третьем мире деколонизация потрясла основы империалистического владычества серией революционных восстаний (Индокитай, Египет, Алжир, Куба, Ангола), приведших к независимости обширных регионов. В Китае укоренившаяся бюрократия стала мишенью направляемого Мао движения, воскресившего идеалы Парижской коммуны.
Такова была обстановка 60-х, со всем тем смешением реальности и иллюзий, в котором вспыхнули революционные энергии образованной молодежи развитых капиталистических государств — не только Франции, Германии и Италии, но и США и Японии. За волной студенческих бунтов быстро, хотя и не повсеместно, последовали выступления рабочих: среди наиболее известных — всеобщая забастовка мая-июня 1968 г. во Франции, «Горячая осень» 1969 г. в Италии и несколько запоздавшие по времени забастовки шахтеров в Британии (1973–1974) — В этих мощных выступлениях вступили в резонанс отзвуки европейского прошлого (Фурье, Бланки, Люксембург, не говоря уже о самом Марксе), настоящее третьего мира (Гевара, Хо Ши Мин, Кабрал) и коммунистическое будущее («культурная революция», которую предвидел Ленин или Мао), создав в итоге политическое брожение, невиданное с 20-х годов. Кроме того, в этот период жизненная сила традиционного морального порядка, регулирующего отношения между поколениями и полами, начала ослабевать (никто не описал параболу этой эпохи лучше, чем Джеймисон в своем эссе «Периодизация 60-х» 10 ). Вполне естественно, что эта эпоха увидела, как вновь зажигаются живые огни авангарда.
Но эта конъюнктура оказалась недолговечной. В течение нескольких следующих лет все знаки обратились в противоположные, когда политические мечты 60-х были разрушены одна за другой. Майские волнения во Франции утихли, не оставив практически никакого следа в политическом застое 70-x. Пражская весна — наиболее смелая попытка коммунистических реформ — была растоптана армиями Варшавского договора. В Латинской Америке герилья, вдохновленная и руководимая Кубой, потерпела поражение. В Китае культурная революция явила скорее террор, нежели освобождение. В Советском Союзе начался брежневский застой. На Западе отдельные выступления рабочих продолжались, но во второй половине десятилетия пошли на спад. Каллиникос и Иглтон правы, когда указывают, что непосредственным источником постмодерна был опыт поражения. Но эти неудачи стали только преамбулой к грядущему полному краху.
В 80-х годах победоносные правые перешли в наступление. В англо-саксонском мире режимы Рейгана и Тэтчер после подавления рабочего движения постепенно отменили регулирование и перераспределение. Распространившаяся из Британии на континент приватизация государственного сектора, сокращение социальных расходов и высокий уровень безработицы образовали новые нормы неолиберального развития, которые в конце концов стали проводиться в жизнь левыми партиями в той же мере, что и правыми. К концу десятилетия Социалистический Интернационал в общем и целом отказался от послевоенной миссии социал-демократии — от государства всеобщего благосостояния, основанного на полной занятости и полном обеспечении. В Восточной Европе и СССР коммунизм, не способный конкурировать экономически за рубежом и демократизироваться политически у себя дома, был полностью ликвидирован. В третьем мире государства, возникшие в результате побед национально-освободительных движений, повсеместно попали в ловушку новой формы международного подчинения, не сумев избежать обязательств, налагаемых глобальными финансовыми рынками и их контролирующими институтами.
Всемирный триумф капитализма означал не просто поражение тех сил, которые выступали против него. Глубинный смысл этого триумфа заключался в ликвидации политической альтернативы. Модерн подошел к концу, как замечает Джеймисон, когда был утрачен последний антоним. Возможность иного социального порядка была существенным горизонтом модерна. Когда ее не стало, наступило нечто вроде постмодерна. Это — непререкаемый момент истины в оригинальной конструкции Лиотара. Но как тогда надлежит резюмировать конъюнктуру постмодерна? Можно представить краткое сравнение с модерном: постмодерн происходит из соединения déclassé (деклассированного) социального порядка, медиатизированной технологии и монотонной политики. Но, конечно, эти координаты и сами являются лишь измерениями некоего более существенного изменения, произошедшего в 70-е годы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
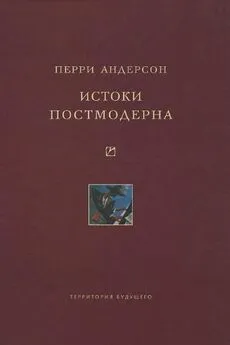


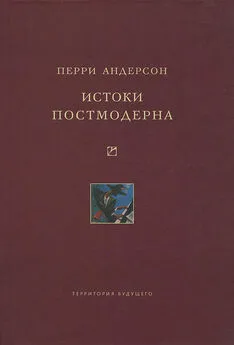
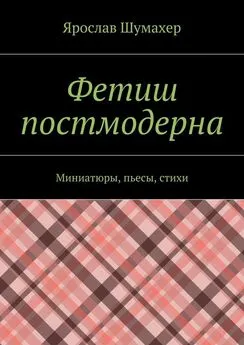


![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)