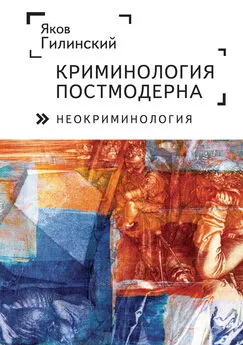Перри Андерсен - Истоки постмодерна
- Название:Истоки постмодерна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Территория будущего
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перри Андерсен - Истоки постмодерна краткое содержание
В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия «постмодерн». Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна. Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, «Истоки постмодерна» рассматривают ее «последействия» в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о «конце искусства» и о судьбе политики в мире постмодерна.
Истоки постмодерна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эти утверждения являются полновесными политическими заявлениями. В прошлом Джеймисона часто обвиняли в недостаточной вовлеченности в реальный мир материальных конфликтов, классовой борьбы и народного протеста, а потому считали «аполитичным». Такое отношение всегда подразумевало неверное прочтение этого стойкого в своих убеждениях мыслителя. Мы уже отмечали его теоретические сомнения в «событийном», способном привести к исторической тотализации, лишенной точных дистинкций в сфере культуры. Эти сомнения определенно прослеживаются в его нежелании признать автономию политического, его, однако, вовсе не отрицающем: речь идет, скорее, о поглощении политического самой формой тотальности. Благодаря этому произошел переход к более четкой triage (сортировке). Однако подобные размышления отсылают вовнутрь, к проблемам теории культуры как таковой. Что же касается более широких отношений творчества Джеймисона с внешним миром, то его голос не имеет равных в том, что касается ясности и красноречивости при сопротивлении общим тенденциям эпохи. Когда левые были более многочисленны и более уверены в себе, его теоретические работы сохраняли определенную дистанцию с актуальными событиями. Но когда левые постепенно оказались в изоляции и осаде и уже с трудом могли предъявить какую-либо альтернативу существующему социальному порядку, Джеймисон стал более прямо говорить о политическом характере эпохи, разрушая чары системы:
Каким насилием участие купить,
Какого жеста стоит справедливость,
Что вкривь и вкось в семейном праве,
Что затаила эта тишина? 75
Александр Бикбов. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже
В одной из многочисленных вылазок с друзьями по окрестностям Клод Моне потерял зонт. Имея привычку до рассвета выходить из дома и подолгу созерцать перемену красок окружающего мира в лучах восходящего солнца и движении атмосферы, Моне разглядывал и отдаленные места своих прогулок. Как-то вернувшись в дом, он стал убеждать друзей и родственников, что обнаружил пропажу. Указывая куда-то в заполонившее каменистые холмы разноцветье, он выделил цветовое пятно, которое, по его мнению, могло быть только утраченным зонтом. Близкие пытались разубедить его, полагая, что на столь значительной дистанции разглядеть зонт попросту невозможно. Моне остался при своем и настоял на экспедиции к указанному им месту. Некоторое время спустя, к удивлению близких и торжеству художника, кто-то из друзей вернулся домой, неся потерянный зонт. Эта история 1 , словно воздающая гению художника в великом и малом, на самом деле — о способности к различению. Различению в насыщенном деталями пейзаже, который предстает перед неискушенным наблюдателем порядком больших форм и контрастных фигур или же будоражащим взгляд беспорядком. В строгой дискретной оптике, которую в течение многих лет практиковал и совершенствовал Моне, тот же пейзаж составлен «лишь» множеством малых цветовых пятен, которые вступают между собой в композиционные отношения.
Современная французская философия, гуманитарные и социальные науки представляются внешнему наблюдателю по-настоящему сложным, если не хаотичным пейзажем. Удачей здесь будет даже не узнать в случайном цветовом пятне потерянный зонт, а для начала понять, с какого расстояния и под каким углом следует обозревать эту картину. Предсказуемо широкая тематическая палитра: от критических исследований неолиберализма и проблематизации политик насилия до очередного пересмотра оппозиции природа/культура и реинтерпретаций христианской чувственности, — дополняется множеством оттенков, диктуемых специализацией исследовательских подходов. Саморефлексия и самокритика, намечаемые изнутри этого пейзажа, крайне эв-ристичны, но попытки, которые претендуют на наиболее широкий охват, нередко оставляют впечатление весьма частной реконструкции, решающей задачу систематики за счет значительного усиления контрастов 2 . Для характеристики этого пейзажа, кажется, вполне пригодны слова одного из участников-наблюдателей, произнесенные веком ранее: «Нельзя выделить ни главенствующих, ни соперничающих школ, которые имели бы неоспоримых руководителей и послушных учеников. Общий вид французской философии можно сравнить с городом, который архитекторы, каменщики и ремесленники строят без предварительного согласия между собой, каждый действуя на свой вкус и следуя собственным наклонностям» 3 .
Капиллярные эффекты и требование оригинальности
Несмотря на наличие в современном интеллектуальном пространстве Франции нескольких научных школ с признанным лидерством и членством, отчасти соответствующим институциональной принадлежности (например, школа Бурдье), воздействие на все это пространство отдельных влиятельных авторов гораздо ближе к эффекту импрессионистской, нежели академической, живописи. Тот же «эффект Бурдье», не говоря уже об «эффекте Фуко» 4 или «эффектах» иных внеуниверситетских интеллектуалов, обнаруживается в едва ли не более последовательном употреблении «сильных» понятий и объяснительных схем авторами, рассеянными по региональным университетам, чем номинальными последователями, в основном сосредоточенными в Париже и чаще рассчитывающими на признание в качестве самостоятельных ученых. Эти рассеянные и капиллярные эффекты делают мерой интеллектуального влияния той или иной фигуры, в конечном счете, не библиографические ссылки, а гораздо труднее квантифицируемые приемы, которые могут не иметь явного понятийного выражения.
Прекрасной иллюстрацией такого положения дел может служить понятие «поле», заимствуемое из проекта критической социологии Пьера Бурдье. Само это понятие стало достоянием публицистов и журналистов, т. е. активно употребляется в широком публичном обороте, по меньшей мере с начала гооо-х. Потому его употребление не может гарантировать принадлежности пишущего к последователям Бурдье. Вместе с тем целый ряд объяснительных приемов, которые предполагает корректное использование этого понятия: межпозиционная борьба за определение границ и ставок игры, определяемая этой борьбой иерархия доминирующих и доминируемых, напряжение между производством смыслов для профессионалов и для широкой публики, превращение некоторых социальных характеристик в «плату за вход», — могут использоваться в работах по социологии или по философии знания без того, чтобы в них явным образом звучало слово «поле». Схожую ситуацию можно наблюдать и в отношении ряда понятий из инструментального набора Мишеля Фуко 5 , Жака Деррида, Жиля Делеза, но также гораздо менее известных в России исследователей, сделавших более традиционную научную карьеру, таких как философ Венсен Декомб, социолог Робер Кастель или антрополог Марк Оже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
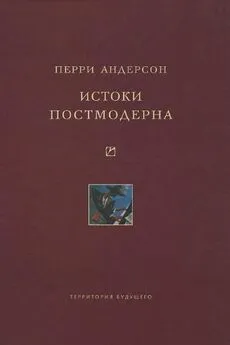


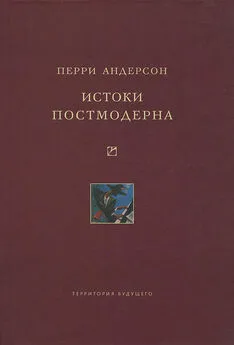
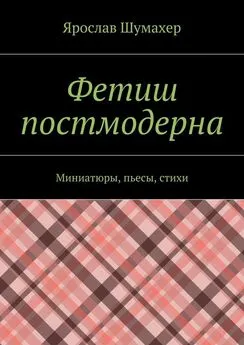


![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)