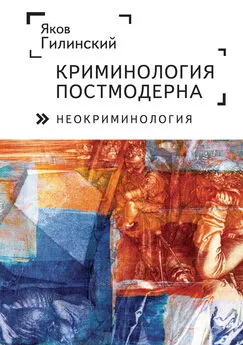Перри Андерсен - Истоки постмодерна
- Название:Истоки постмодерна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Территория будущего
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перри Андерсен - Истоки постмодерна краткое содержание
В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия «постмодерн». Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна. Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, «Истоки постмодерна» рассматривают ее «последействия» в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о «конце искусства» и о судьбе политики в мире постмодерна.
Истоки постмодерна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Промежуточное положение между полюсом «больших» государственных заведений и рынком интеллектуальных публикаций заняли институции, предоставившие целой когорте исследователей-«еретиков» возможность для реализации пускай нетрадиционной, но полноценной научной карьеры в послевоенной Франции. Центральное место среди них заняла Высшая школа социальных наук (EHESS), основанная в конце 1940-х 31 , сотрудники которой пользовались даже большей свободой в выборе тем и методов своих интеллектуальных занятий, чем сотрудники государственных исследовательских институтов. Не будучи традиционным государственным заведением и даже, поначалу, традиционным заведением со своим зданием и с обыкновенными студентами, Школа долгое время функционировала как надстройка из исследовательских центров, проводивших обучение немногочисленных аспирантов и вольнослушателей непосредственно «в поле» и до самого недавнего времени выдававшая диплом собственного образца 32 . Поначалу не представляя интереса для искателей привычной университетской карьеры, это заведение стало местом — единственно возможным во французском академическом мире 1950-1970-х, где смогла сделать карьеру целая плеяда блестящих социальных исследователей, гуманитариев и философов, чья работа крайне слабо стыковалась с тематическим и методологическим (т. е. дисциплинарным) репертуаром, действующим в этот период в университетах. Из наиболее известных нам имен Школа объединила Фернана Броделя, Жоржа Гурвича, Александра Койре, Люсьена Леви-Брюля, Габриеля Ле Бра, Клода Леви-Строса, Люсьена Февра, Жоржа Фридмана, Ролана Барта, Жан-Пьера Вернана, Пьера Видаль-Наке, Пьера Бурдье, Жака Деррида и вместе с ними — несколько десятков исследователей, отличавшихся столь же «атипичными», внедисциплинарными интеллектуальными предпочтениями. Кто-то из них, как Ролан Барт, гораздо явственнее тяготел к рынку интеллектуальных публикаций и по тематике занятий, почти неотделимых от литературы и искусства, и по характеру сопутствующих проектов. Кто-то, как Пьер Бурдье, выстраивал свой проект по образцу строгой науки, находясь в лагере явных сторонников единого социального знания и его ярых защитников от литературно-публицистической девальвации 33 . Общим достоянием, которым они совместно пользовались в новом заведении, был отбор обладателей исключительных интеллектуальных качеств, устойчивая карьера в форме оплаченного и освобожденного для исследований времени, постепенно расширяющаяся лабораторная инфраструктура, библиотека, возможность институциализировать свои интересы в виде исследовательских центров с постоянными сотрудниками. Некоторые члены Школы были также избраны профессорами Коллеж де Франс: Февр, Бродель, Леви-Строс, Вернан, Барт, Бурдье.
Сравнивая эти две атипичные институции, Школу и Коллеж, с университетами и Высшей нормальной школой, Пьер Бурдье так описывает их специфику: «Если профессора Коллеж де Франс и Высшей школы [социальных наук]… чаще других представлены на полюсе исследований, так это потому, что их роднит более-менее полная свобода от тех принуждений, которые давят на господствующие факультетские дисциплины, начиная с жесткой программы и многочисленных студентов, со всеми обязанностями, но также престижем и властью, которые из этого вытекают. Свободные в выборе темы своих занятий, они имеют возможность разведывать новые объекты, предназначенные вниманию небольшого числа будущих специалистов, вместо того чтобы излагать многочисленным ученикам, в большинстве своем не идущим в науку, результаты уже завершенных исследований (часто чужих) и вопросы, каждый год определяемые экзаменационными и конкурсными программами, в духе неизбежно и во многом обязанном логике контроля за успеваемостью» 34 . К этому следует добавить, что публикации академических «еретиков» или «эксцентриков», которым работа в Школе оставляла обширное пространство для тематического выбора и время для его реализации, нередко пользовались успехом у широкой читающей публики, пускай он был более специальным и не столь оглушительным, как у Фуко, авторов «нового романа» или у мало чем отличающих от журналистов «новых философов».
Вклад Школы, к 1980-м ставшей престижным научным заведением, в разнообразие французского интеллектуального пейзажа можно оценить по результатам, произведенным в согласии с теми преимущественно внедисциплинарными критериями, которые за прошедшие десятилетия легитимировали и «одомашнили» ее сотрудники, а вслед за ними — в силу успеха на рынке интеллектуальной литературы — частично освоили и «большие» заведения. Среди авторов номера «Логос» № 1 (2011) представлены несколько сотрудников Школы: философ Венсен Декомб, успешно совмещающий теоретическую археологию субъекта с критикой текущих образовательных реформ 35 ; антрополог Филипп Десколя, бывший ученик Клода Леви-Строса, сотрудника Школы первого поколения, столь же неканонически, сколь свободно вовлекающий в свою антропологическую интерпретацию Гуссерля, Фуко или символический интеракционизм 36 ; и социолог Люк Болтански, бывший ученик другого сотрудника Школы, Пьера Бурдье, который перемежает исследования новых профессиональных категорий и новых форм субъективности современного капитализма с эссе о социализированных страстях и звуковыми перформансами 37 .
Помимо установки на внедисциплинарность, в работе этой институции обращает на себя внимание более явный эффект школ мысли, существенно слабее выраженный в университетских учреждениях как школах базовой дисциплины. В Высшей школе социальных наук, где обучение новичков в 1950-1980-е годы происходит на практике, через их включение в конкретные исследовательские проекты, более рельефно воспроизводятся и характерные для малых научных групп отношения учитель/ученик. Однако, в отличие от исследовательских коллективов «большой науки», эти отношения достаточно быстро и основательно переопределяются в ходе эксцентрической профессиональной карьеры, ведомой все той же установкой на оригинальность исследовательской программы и предметной области. Работа под руководством большого исследователя и преемственность, которой не отрицают сами бывшие ученики, готовят их к энергичному отказу от освоенных схем и перипетиям преодоления, цель которого— знание как личностный конструкт. Именно так Ф. Десколя описывает становление собственной интерпретативной модели: от критики географического детерминизма в этнографии, с опорой на структурную антропологию Леви-Строса, пропущенную через собственный взгляд и тело полевого этнографа, к преодолению леви-стросовской модели по мере проблематизации включенным европейским наблюдателем собственного раздельного восприятия природы и культуры 38 . Схожим образом упорядочено автобиографическое повествование Л. Болтански. Социальная и познавательная неопределенность первоначального выбора: «Я пришел [в социологию], поскольку стал студентом в период, когда это казалось чем-то интересным. Как многие подростки, я хотел заниматься литературой. То есть я хотел ничего не делать, что было бы самым оптимальным, или, на крайний случай, заняться историей, имея в виду, что история вела к тому, чтобы ничего не делать. […] У меня были приятели, пошедшие учиться на социологов, […] в основном политические активисты, […] и занятие социологией значило для меня продолжение активизма» 39 . Погружение в социологию как науку не через лекционные курсы, а через практику: записавшись студентом-социологом в Сорбонну, он вскоре становится техническим ассистентом П. Бурдье и обрабатывает исследовательские материалы. Насыщенный период становления теоретического взгляда в 1968-1976-х годах, который проходит в составе группы под руководством Бурдье, в непрерывном и «почти ежедневном контакте» с Бурдье, чаще всего поздно вечером, поскольку тот был ночным работником. Интеллектуальный разрыв в середине 1970-х с последующим институциональным расхождением, которое заканчивается созданием в 1984 году «своего» центра в стенах той же Школы 40 . Между этими двумя событиями — публикация исследования, принесшего Болтански одновременно научную и публичную известность 41 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
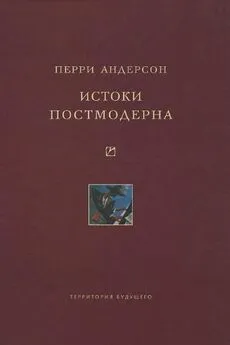


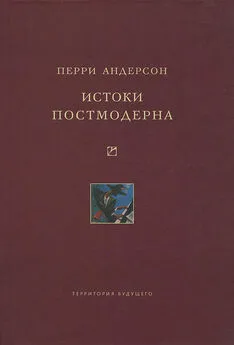
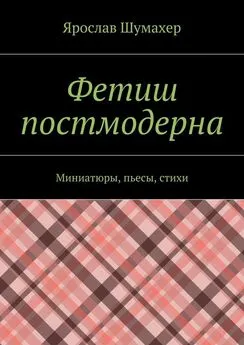


![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)