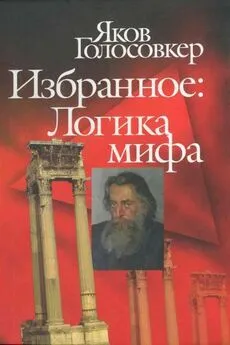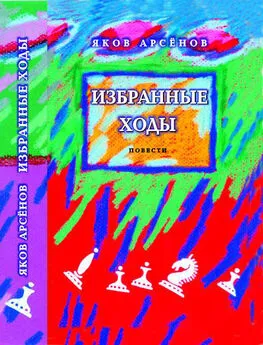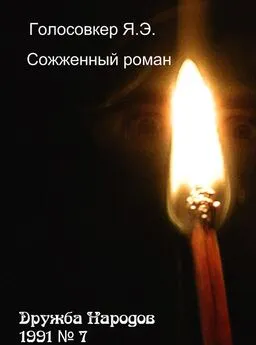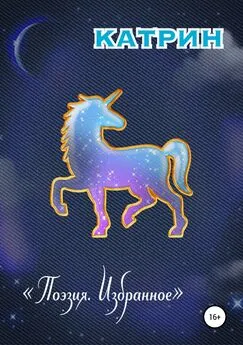Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа
- Название:Избранное. Логика мифа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга
- Год:2010
- Город:Москва, С-Пб
- ISBN:978-5-98712-045-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа краткое содержание
Яков Голосовкер (1890–1967) — известный филолог, философ и переводчик. Его отличает мощное тяготение к двум культурным эпохам: Элладе и немецкому романтизму. Именно в них он видел осязаемое воплощение единства разума и воображения. Поиск их нового синтеза предопределил направленность его философского творчества, круг развитых им идей. Мысли Голосовкера о культуре, о природе культуры вписываются в контекст философских исканий в Европе в XX веке. Его мысль о естественном происхождении культуры как способности непосредственно понимать и создавать смыслы, о том, что культура «эмбрионально создана самой природой» представляет интерес для современного исследователя. Философские и теоретические идеи известного русского мыслителя XX века Голосовкера приобретают особое звучание в современном научном дискурсе.
В том вошли следующие работы: «Имагинативный Абсолют», «Достоевский и Кант», «Миф моей жизни» и др., а также статьи А. П. Каждана, Н. И. Конрада, С. О. Шмидта, Е. Б. Рашковского и М. А. Сиверцева о Голосовкере.
Издание работ Якова Голосовкера — известного специалиста по античной литературе, мифологии, писателя, одного из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени — представляется своевременным и необходимым. Перед нами интересная и умная книга, которая будет с радостью воспринята всеми, кому дорога русская культура и культура вообще.
http://fb2.traumlibrary.net
Избранное. Логика мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сколько горя причинила мне эта радость геймермена [18] От англ.: game — игра; man — человек. — Прим. ред.
!
Не об этом ли умном чувстве говорит Фейербах, когда речь идет о воображении?
Итак, еще раз! — То, что мы называем духом, — это есть тысячелетиями выработанный в человеке высший инстинкт: Инстинкт Культуры. Он работает, т. е. проявляет себя силой воображения. Он сидит в воображении. Воображение есть мыслительная способность, одновременно познающая и комбинирующая. Воображение — композитор. Оно диалектично. Вся работа воображения совершается путями диалектической спонтанно движущейся логики. Естественный язык этой логики первоначально — язык образный, иногда символический: ибо смыслы диалектической логики двойственны и с точки зрения формальной логики противоречивы. Она каузально не обусловлена.
Основные законы этой диалектической логики суть:
1. Закон постоянства-в-изменчивости.
2. Закон изменчивости-в-постоянстве.
Диалектическая, т. е. самодвижущаяся спонтанная логика Гегеля есть именно логика воображения. Ею оно оперирует или развивает свои созерцания, т. е. развивает им создаваемый смысл, который оно вкладывает в мир. Воображение в процессе творчества как бы созерцает свой смысловой путь. Всё это станет самоочевидным в главе «Метаморфоза мифологического образа» (см. «Логику античного мифа»). Эту самодвижущуюся логику бранил Шопенгауэр, но только потому, что она принадлежала к системе Гегеля и была изобретена Шеллингом. Но сам же Шопенгауэр ее неизменно применял под именем непосредственного созерцания или интуиции, присущей поэту, философу и гению. Она также присуща романтике. (Дискурсивное мышление не обладает самодвижущей спонтанной логикой.)
4. Дополнения
4.1. 1-е дополнение
Имагинация есть как бы высший орган разума, его высшая деятельность — одновременно творческая и познавательная. Она проявляется в двоякой форме: в форме созерцания и в форме инспирации-вдохновения. Вдохновение — высшая степень созерцания.
Из внутреннего опыта мы воспринимаем вдохновение как энтузиазм-самопогружение, т. е. как некое вовлечение-в-себя: (эзотерическое состояние) — и —
как экстаз, как некий выход-из-себя: (экзотерическое состояние).
Конечно, то и другое можно рассматривать как одержимость и как самовнушение (аутосуггестию), сведя творчество к особой форме самовнушения, а познание — к одержимости, хотя они нерасчленимы.
Инспирация есть состояние высшей познавательной активности, а не только высшего творческого напряжения.
Имагинация, как деятельность высшего инстинкта, создает и одновременно познает мир идей. Идеи имманентно-имагинативны, а не трансцендентно-онтологичны. Их имагинативная природа у Платона была не понята интерпретаторами. Не постигали того, что имагинация (воображение) есть высшая сила разума, которая перевоплощает относительные постоянства природы в абсолютные постоянства культуры. Такова ее диалектика.
Здесь Платона истолковывают навыворот.
Познавательная сила и сущность воображения, как высшая форма познания, не были до сих пор поняты и исследованы. Имагинативное познание раскрывает нам те загадки (энигмы) в философии, которые казались неразрешимыми дискурсивно мыслящему разуму и обрекались на беспредметное скитание по формально-логической дороге, ведущей к воротам математики.
Имагинация, как она раскрывается нам в процессе «вдохновения», характеризуется здесь как нечто чрезвычайно тонкое, как совокупность нежнейших, легчайших волн. Чтобы их рассеять, спутать, сбить, уничтожить, достаточно слова, прикосновения, дуновения. Этот познавательно-творческий процесс есть сложнейший комплекс.
Элементы этого имагинативного процесса:
1. Комбинирование, частично осознаваемое и одновременно несознаваемое.
2. Спонтанное логическое саморазвитие мысли.
3. Реющие образы. Уловление этих реющих образов. Иногда только едва проступающий, чуть осязаемый, как бы ускользающий смысл.
4. Угадывание — (интуитивная гипотеза).
5. Вибрация ритма. Иногда еле уловимая музыка или ритмомелодика.
6. Восприятие некоего вибрирующего смысла или даже вибрирующих смыслов, дающих единое эмоционально-ментальное впечатление.
7. При этом чувство опламенения-горения: как бы легкое приятное пламя в голове и мышцах, и вообще чувство необычайной легкости в голове и теле.
8. Чувство волевого напора, внимания, сосредоточенности, как бы сосредоточения себя в точке. Это чувство в целом принимается за внутреннее зрение. Такая сосредоточенность и есть собственно состояние, когда мы созерцаем идею, смысл, внутренний образ. Тогда мы не замечаем внешнего мира. Органические функции также неощутимы.
Все это необычайно легко вспугнуть. Тогда все мгновенно как бы проваливается в пропасть и исчезает. Будто свалился с неба на землю. Находишь себя физического. Сразу чувствуешь свою тяжесть. Досада по причине невозвратимости того необычайного состояния: оно ушло. Таков момент «вспугнутого вдохновения».
В мгновения вдохновения творчество является одновременно и познанием. Вдохновенно творя, создатель познает идею-форму-сущность-смысл, воплощаемые в создаваемое им в процессе самого комбинирования. Он познает не «неизвестное» через «известное», т. е. через заранее известные ему элементы (Arrangement A m/n), из которых он комбинирует, а познает «неизвестное» непосредственно: открывает его и влагает в общий комплекс смысла и формы.
Вдохновение, как высшая познавательная активность, есть то, что я называю энигмативным познанием: оно — высшая форма имагинативного познания. Миф есть также форма имагинативного познания. Его язык — язык символов. Мистика, как «гнозис», есть также некий вид энигмативного познания. Путем имагинативного познания приходят к эстетике, чтобы раскрыть ее законы или, лучше говоря, ее энигмы:
Энигма 1-я: закон сложности простоты и простоты сложности.
Энигма 2-я: Осуществленное противоречие, как гармония и смысл.
Энигма 3-я: Общеизвестный закон единства в многообразии.
Энигма 4-я: Закон изменчивости-в-постоянстве, как общий закон культуры.
Первая энигма: «сложность простоты» постигается аналитическим путем, хотя полному анализу предшествует всегда догадка.
«Простота сложности» постигается синтетически, как гармония, хотя полному синтезу предшествуют единичные неполные синтезы [19] Ритмопоия и версификация поэтов-меликов Эллады кажется чрезвычайно сложной и загадочной. Но она сводится к нескольким простым законам: внутренней рифмы, пауз, доминантных гласных или дифтонгов, перемены «этоса». Это и есть пример «простоты сложности». Однако самая структура стиха, как совокупность метросиллабической системы, синтаксиса, лексики, инструментовки, образов, смысла и даже вибрации смысла, совокупность, дающая у великих лириков очень «простые стихи» (лирику прямого отражения), есть пример «сложности простоты».
.
Интервал:
Закладка: