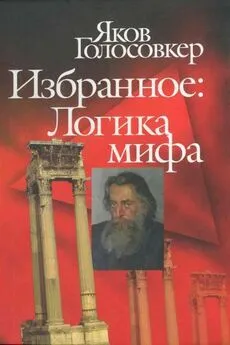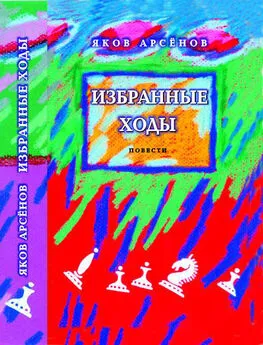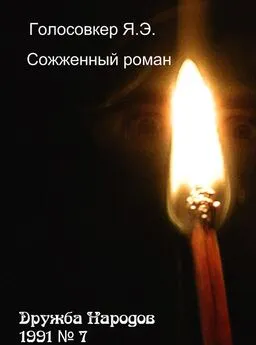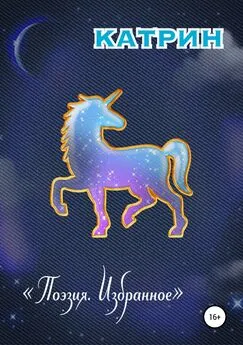Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа
- Название:Избранное. Логика мифа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга
- Год:2010
- Город:Москва, С-Пб
- ISBN:978-5-98712-045-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа краткое содержание
Яков Голосовкер (1890–1967) — известный филолог, философ и переводчик. Его отличает мощное тяготение к двум культурным эпохам: Элладе и немецкому романтизму. Именно в них он видел осязаемое воплощение единства разума и воображения. Поиск их нового синтеза предопределил направленность его философского творчества, круг развитых им идей. Мысли Голосовкера о культуре, о природе культуры вписываются в контекст философских исканий в Европе в XX веке. Его мысль о естественном происхождении культуры как способности непосредственно понимать и создавать смыслы, о том, что культура «эмбрионально создана самой природой» представляет интерес для современного исследователя. Философские и теоретические идеи известного русского мыслителя XX века Голосовкера приобретают особое звучание в современном научном дискурсе.
В том вошли следующие работы: «Имагинативный Абсолют», «Достоевский и Кант», «Миф моей жизни» и др., а также статьи А. П. Каждана, Н. И. Конрада, С. О. Шмидта, Е. Б. Рашковского и М. А. Сиверцева о Голосовкере.
Издание работ Якова Голосовкера — известного специалиста по античной литературе, мифологии, писателя, одного из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени — представляется своевременным и необходимым. Перед нами интересная и умная книга, которая будет с радостью воспринята всеми, кому дорога русская культура и культура вообще.
http://fb2.traumlibrary.net
Избранное. Логика мифа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Затем Шеллинг-обвинитель повторяет обвинение Платона, поддержанное Гегелем: вина Прометея в том, что он не облагородил человека, что он даже свел его с пути: сделал его умным до того, как он стал добрым, дал ему средства для удовлетворения низших инстинктов до того, как развились в нем высшие, сосредоточил все действия человека на чувственном мире.
Нет, невиновен Прометей — отвечает Шеллинг-судья: для человека необходим переход от слепой воли к разуму. Первые дары Прометея недостаточны для обретения полной человечности; он передал человеку скрытый от него Зевсом огонь, чем открыл путь к искусствам и культуре технической. Но он дал ему еще «разумение» мира, чем открыл путь к высшему: от Прометея этот высший дар. Поэтому прав Прометей. (Оправданию помог «Филеб» Платона.)
Значит, виновен Зевс?
Зевс, по Шеллингу, не мог не хотеть поступка Прометея — даровать людям разум. Раз мир дошел до Зевса, то Прометей только предугадал и обратил в действительность ту возможность, которая предстояла человеку. Сам Зевс победил силой разума при помощи Прометея. Сам Зевс мыслит о создании обновленного человечества, и все же он карает.
Нет, невиновен Зевс, — отвечает Шеллинг-судья: только ценой такой кары, т. е. страдания, покупается свобода и независимость от бога-природы.
И так формулирует Шеллинг-судья приговор:
Прометей, будучи тем, что не мог поступить иначе. Он свершил то, что должен был свершить.
Но и Зевс, будучи Зевсом, поступил так, как должен был поступить.
Здесь противоречие — но противоречие надо не снять, а признать и найти ему подобающее выражение, осмыслить его.
Противоречие, по Шеллингу, скрыто в самом человеческом разуме. И мы вправе заключить, что трагедия «Прометей», по Шеллингу, — это трагедия разума, разрываемого противоречием познания и активной воли, т. е. заложенного в нем двоеначалия. Раскрытие этого двоеначалия возвращает Шеллинга к учению орфического дионисийства о титаническом и дионисийском началах в человеке, его единовременной устремленности к обособлению (индивидуации) и к объединению (общности), к гармонии и к хаосу.
И у Шеллинга в разуме человека есть и «божественное» и «противобожествепное» начало, чему символом служит Прометей. Сам Прометей — Зевсово начало, божественное в глазах человека, наделяющее человека разумом. Но воля Прометея, неодолимая и бессмертная, противостоит божеству. В этом она противобожественна. Прометей несет последствия своей непреоборимой воли богоборца. Он терпит страдание за все человечество. В своих страданиях он высший прообраз «я» человека, которое, выступив из тихого единства с богом, приковывается клещами железной необходимости (Гефестом) к крутой скале (Кавказу) случайной, но безысходной действительности и в безнадежности взирает на неисцелимую, неустранимую рану, нанесенную ныне уже неотменным деянием. Так и Прометей отвергает мысль о покаянии, он готов бороться тысячелетия, пока не получат свободы титаны и пока новый род людской в лице Геракла не освободит его.
Пусть Зевс суров. Но суровость Зевса основана на исконном праве на бытие, которое в нем слепо, не знает ни добра, ни зла, пребывает по ту сторону разума и основывается только на силе власти. Зевс — это природа.
Так у Шеллинга предстоит Прометей — возмутителем поневоле, а Зевс — карателем поневоле, быть может, во имя грядущего освободителя Геракла как символа примирения двух враждебных начал.
Маркс безоговорочно стал на сторону Прометея-богоборца и цитирует отповедь Эсхилова прикованного титана прислужнику богов Гермесу:
Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.
Этим Маркс осудил Зевса.
Более того, Маркс усмотрел в Прометее философа и самое его богоборчество признал призванием самой философии, для которой высшее божество — одно: человеческое самосознание. В свете такого истолкования Прометей предстал как «самый благородный святой и мученик в философском календаре». (Предисловие к докт. диссертации C.C.I.26.)
Прометей — богоборец. Смысл богоборчества в плане культуры — не только богосвержение с передачей функций бога человеку, оно — борьба за человека, за личность, за право на человека, за право человека всецело создавать человека, вырвав у природы власть над ним.
В Средние века эта борьба за «сотворение» человека имела смысл натурфилософский и была зло осмеяна Гёте в образе алхимика Вагнера, создателя «гомункулуса» — человека в реторте. В новые века эта борьба получила социально-политический смысл и стала лозунгом науки: отвоевать у природы право человека на созидание человека.
И Прометей, по мифу — ваятель человека, исправляющий своим даром похищенного огня опрометчивость недогадливого брата Эпиметея, позабывшего вооружить человека. Если следовать Гесиоду, то преступление-подвиг Прометея — похищение огня — вызвано злой волей богов (природы): это они, боги, создавали поколения людей и сами же их уничтожали. Они уничижили людей золотого, серебряного, медного века. И сейчас, в век железный, Зевс у Эсхила
…уничтожить вздумал
Весь род людской и новый насадить.
Этому воспрепятствовал Прометей похищением огня, символа творческой мысли, т. е. той самой силы, которая, по мифу, создала человека. Вооружив его огнем и культурой, Прометей дал человеку одновременно оружие и оборонительное и наступательное против губительных сил природы, но это значит и против богов. Тем самым Прометей заложил в человека огонь богоборчества, который и должен был в конечном счете привести человека к атеизму, к попытке не только перешагнуть богов и стать превыше их, но и стать превыше Мойр — судьбы: преодолеть необходимость природы (Ананку).
Но у Эсхила богоборец — не атеист. Атеистом он станет у Эпикура, равнодушного к богам и чуждого богоборчества. В жизни оба понятия покрывают друг друга. На практике современный безбожник — он же и богоборец. Но в плане искусства, особенно классической трагедии, где отчетливость обрисовки характера героя есть непременное условие для правильной мотивировки его поступков и где смещение в оттенке характера сместит самую мотивировку и выявит поступок неоправданным, там, в трагедии, взаимопоглощение понятий, как, например, атеист-безбожник и богоборец, затуманило бы характер героя. Здесь то же различие, какое между аморалистом и антиморалистом. Аморалист — отвергает любую мораль, он — некий пожимающий плечами: «Мораль?! Что такое мораль?». Он — Свидригайлов, он — Понтий Пилат. Антиморалист борется с данной системой морали, с ее заповедями во имя иной системы, иных заповедей: он — революционер. Так и здесь: атеист-безбожник равнодушен к богу, он аннулирует и игнорирует его бытие: он — Эпикур. Богоборец же борется с богом. Он его «противник», он — мифический библейский сатана Мильтона.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: