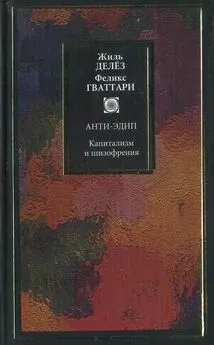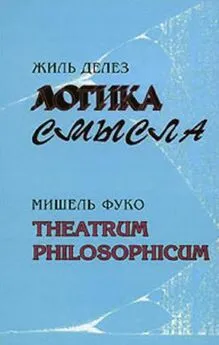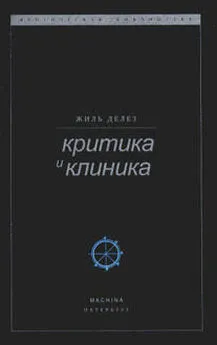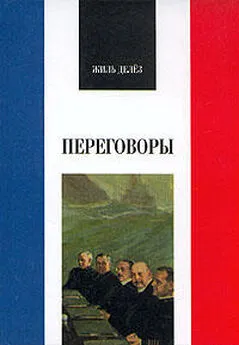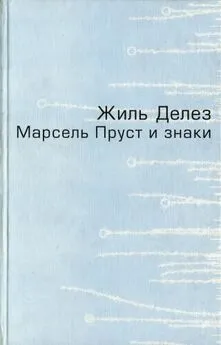Жиль Делез - Эмпиризм и субъективность (сборник)
- Название:Эмпиризм и субъективность (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПЕР СЭ
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-9292-0036-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жиль Делез - Эмпиризм и субъективность (сборник) краткое содержание
В предлагаемой вниманию читателей книге представлены три историко-философских произведения крупнейшего философа XX века — Жиля Делеза (1925–1995). Делез снискал себе славу виртуозного интерпретатора и деконструктора текстов, составляющих «золотой фонд» мировой философии. Но такие интерпретации интересны не только своей оригинальностью и самобытностью. Они помогают глубже проникнуть в весьма непростой понятийный аппарат философствования самого Делеза, а также полнее ощутить то, что Лиотар в свое время назвал «состоянием постмодерна». Книга рассчитана на философов, культурологов, преподавателей вузов, студентов и аспирантов, специализирующихся в области общественных наук, а также всех интересующихся современной философской мыслью.
http://fb2.traumlibrary.net
Эмпиризм и субъективность (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кого побуждает к признанию ее [христианской религии — пер.] Вера, переживает в самом себе непрерывное чудо, нарушающее все принципы его ума и располагающие его верить в то, что совершенно противоречит привычке и опыту. 18
Мы согласны с иронией Юма и его необходимыми предосторожностями. Но если наше согласие справедливо, оно не объяснит собственно философского содержания Диалогов. Фактически, религия оправдывается, но лишь в весьма особом положении — [она оправдывается] вне культуры и вне подлинного познания. Мы увидели, что философии нечего сказать о причине принципов, о происхождении их силы. Вот оно — место Бога. Мы не можем пользоваться принципами ассоциации ни чтобы познавать мир как результат божественной деятельности, ни, тем более, чтобы познавать Бога как причину мира; но мы всегда можем негативно мыслить Бога как причину принципов. Именно в этом смысле теизм пригоден, и именно в этом смысле вновь вводится цель. Такая цель будет мыслиться, но не познаваться, как изначальное согласие между принципами человеческой природы и самой Природой.
Итак, здесь существует разновидность предустановленной гармонии между ходом природы и сменой наших идей. 19
Итак, цель сообщает нам — в постулированном виде — изначальное единство начала происхождения и качественной определенности. Идея бога — как изначальное согласие — это мысль о чем-то вообще; что касается познания, то она может обрести содержание только самоискажаясь, после отождествления с тем или иным способом проявления, манифестируемого опытом, или после определения с помощью по необходимости пристрастной аналогии.
В этом маленьком уголке мира существуют четыре принципа: разум, инстинкт, порождение и произрастание, 20 и каждый из этих принципов может предоставить нам согласованное изложение относительно происхождения мира. Но если данное происхождение как таковое мыслимо, но непознаваемо, если оно одновременно являет нам все — как материю и жизнь, так и дух, — то оно обречено на безразличие в отношении каждой оппозиции, оставаясь поту сторону добра и зла. 21 Любая имеющаяся у нас относительно него точка зрения выполняет только одну функцию: она заставляет нас выходить за пределы других равно возможных точек зрения и напоминает нам, что речь всегда идет о пристрастных аналогиях. В каком-то отношении преднамеренность выступает скорее как жизненный порыв и, в меньшей степени, как проект или замысел бесконечного интеллекта. 22 Можно возразить, что любой порядок возникает из замысла; но это значило бы предположить уже решенную проблему, 23 свести любую преднамеренность к интенции и забыть, что разум — лишь один из способов действия среди многих.
Почему организованная система не может быть выткана из чрева настолько же хорошо, как из мозга[?]. 24 Чем же становится Идея Мира в таком новом обстоянии дел? Является ли она всегда простой функцией фантазии?
Мы уже видели два фиктивных применения принципа причинности. Первый определялся повторениями, не вытекающими из опыта; второй — особым объектом, Миром, который не может быть повторен и который, собственно говоря, и не является объектом. Итак, по Юму, есть третья, фиктивная и избыточная, причинность. Она манифестируется в вере в отчетливое [distincte] и непрерывное существование тел. С одной стороны, если мы и приписываем объектам непрерывное существование, то благодаря какому-то типу причинного умозаключения, имеющему в качестве собственного основания согласованность определенных впечатлений; 25 несмотря на дискретность моего восприятия, я допускаю непрерывное существование объектов, чтобы соединить их прошлое появление с настоящим и поставить их в такую взаимную связь, которая, как я знаю из опыта, соответствует их особой природе и обстоятельствам. 26
Тогда разрешается противоречие, имевшееся между соединением двух объектов в наличном опыте и появлением одного из них только в моем восприятии без одновременного появления соединенного с ним второго объекта. 27 Но противоречие разрешается только благодаря фикции воображения: такой вывод является здесь фиктивным, а причинное умозаключение — расширенным; оно выходит за пределы принципов, задающих условия его законного применения вообще и удерживающих его в границах рассудка. Фактически, я наделяю объект большей согласованностью и определенностью, чем те, что я наблюдаю в собственном восприятии.
Но так как все заключения относительно фактов основываются только на привычке и так как привычка может быть лишь действием повторных восприятий, то перенесение привычки и заключений за пределы восприятий не может быть прямым и естественным следствием постоянного повторения и связи. 28
С другой стороны, отчетливое существование покоится на столь же ложном применении причинности, то есть на фиктивной и противоречивой причинности. Мы утверждаем причинную связь между объектом и его восприятием, но мы никогда не схватываем объект независимо от того восприятия, какое о нем имеем. Мы забываем, что причинность становится законной только тогда, когда прошлый опыт открывает нам соединение двух наделенных бытием сущностей. 29 Короче, непрерывность и отчетливость непосредственно являются фикциями и иллюзиями воображения, поскольку они касаются того, что — по определению — не предлагается ни в каком возможном опыте, и обозначают последнее, будь то посредством чувств или же посредством рассудка.
По-видимому, все это делает веру в непрерывное и отчетливое существование особым случаем экстенсивного правила. На первый взгляд тексты, рассказывающие, соответственно, o формировании такой веры и о формировании правил, параллельны [друг другу). Воображение всегда использует фиксирующие его принципы — смежность, сходство и причинность, — чтобы выйти за свои пределы и распространить эти принципы по ту сторону условий их применения. 30 Итак, согласованность изменений вынуждает воображение симулировать еще большую согласованность в той мере, в какой воображение намерено допустить непрерывное существование. 31 Такое постоянство и сходство явлений заставляет воображение приписывать сходным явлениям тождество неизменного объекта, а затем снова придумывать непрерывное существование, дабы преодолеть оппозицию между тождеством похожих восприятий и дискретностью явлений. 32 Но дело в том, что параллелизм между верой и правилом лишь кажущийся. Хотя эти две проблемы весьма различны, тем не менее они дополняют друг друга.
Фикция непрерывности, оставаясь противоположной экстенсивным правилам, не поддается коррекции, она не может, да и не должна быть скорректирована; следовательно, она поддерживает с рефлексией другие отношения. Более того, что касается воображения, то его происхождение совсем иное, нежели происхождение общих правил. Начнем со второго пункта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: