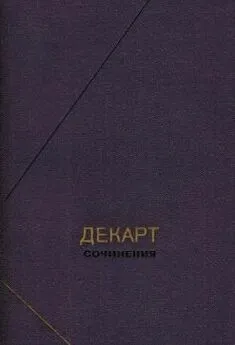Рене Декарт - Сочинения в двух томах. Том 1
- Название:Сочинения в двух томах. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:5-244-00022-5, 5-244-00023-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рене Декарт - Сочинения в двух томах. Том 1 краткое содержание
В настоящий том входят произведения французского философа XVII в., представляющие достаточно полную картину его воззрений на мир, познание, человека: «Правила для руководства ума» (в новом переводе), «Мир, или Трактат о свете», «Рассуждение о методе», «Первоначала философии» и др. Включенная в том избранная переписка (впервые публикуемая на русском языке) способствует лучшему уяснению взглядов мыслителя. Впервые на русском языке публикуется работа «Замечания на некую программу, изданную в Бельгии в конце 1647 года…».
http://fb2.traumlibrary.net
Сочинения в двух томах. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(8) В отличие от Аристотеля, называвшего наведение «восхождением от единичного к общему» («Топика» I 12, 105 а 13–14), Декарт не считал познание общего искомым результатом индуктивного заключения и рассматривал энумерацию, или индукцию, прежде всего как эффективный способ упорядочения и классификации исследуемых положений.
(9) Общее чувство (sensus communis) понимается Декартом как «часть тела», или место, в котором сходятся различные восприятия внешних чувств; причем в «Правилах» неоднократно отмечается пассивность чувственности в целом и общего чувства в частности. Понимание Декартом общего чувства заметно отличается как от аристотелевской концепции общего чувства, так и от ее схоластических интерпретаций. Согласно Аристотелю, общее чувство обрабатывает и «суммирует» восприятия, получаемые им от внешних чувств, познает общие чувственно воспринимаемые свойства (движение, покой, фигуру, величину и число), посредством выявления полезного и вредного, доброго и злого указывает, к чему надо стремиться и чего избегать, и, наконец, является восприятием восприятия. При этом Аристотель недвусмысленно отличает общее чувство (см. «О частях животных» IV 10, 686 а 31–32; «О душе» III 1, 425 а 27; «De memoria et reminiscentia» (О памяти и воспоминании) 1, 450 а 10–11) от его органа, или общего чувствилища, локализуемого в сердце (см., напр., «De juventute et senectute» (О молодости и старости) 1, 467 b 28–29; 3, 469 а 10–12). Все эти установки Стагирита оказали несомненное влияние и на теорию внутреннего чувства, разработанную Августином. Не случайно, подчеркивая функциональное единство интеллектуализированного внутреннего чувства, многие схоластики сближали эту теорию Августина с аристотелевской концепцией общего чувства (по словам августинианца XIII в. Роджера Марстона, общее чувство «Августин называет внутренним чувством» (Marston R. Quaestiones disputatae de aniraa. Q. 7//Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi. T. 7. Ad Claras Aquas, 1932. P. 375)). Даже Фоме Аквинскому, обычно предпочитавшему аверроистскую классификацию внутренних чувств, подчас не была чужда унитарная интеллектуалистическая трактовка общего, или внутреннего, чувства, «при посредстве которого мы судим об отдельном чувстве» (Thomas Aquinas. Summa theologiae II. II. Q. 49. A. 2 ad 3//Idem. Opera omnia. Vol. 8. Romae, 1895. P. 368). В противоположность характерной для Аристотеля, Августина и многих схоластиков интеллектуалистической трактовке общего, или внутреннего, чувства Декарт предложил чисто «физиологическое» объяснение функционирования этого чувства. Он не проводил явного различия между общим чувством и общим чувствилищем и потому не мог рассматривать общее чувство как восприятие восприятия. В отличие от схоластиков, считавших, что синтезирующая функция общего чувства во многом обусловливает единство самосознания эмпирического я, автор «Правил», противопоставляя непространственное интеллектуальное познание как бы «опространствленному» чувственному познанию, сводил эту функцию лишь к «механическому» совмещению различных фигур, не затрагивающему духовной первоосновы субъекта.
(10) В противоположность Аристотелю и схоластикам, понимавшим под воображением прежде всего «часть души», Декарт умышленно называет здесь фантазию, как ранее и общее чувство, частью тела, стараясь максимально отдалить чистое разумение от воображения и других «низших» познавательных деятельностей посредством приписывания последним пространственных или квазипространственных свойств. Вместе с тем, утверждая, что кроме разума у человека имеются три познавательные способности: чувственное восприятие (включая общее чувство), воображение, или фантазия, и память, Декарт давал своим последователям повод для формального сближения его классификации познавательных способностей со схоластическими классификациями внутренних чувств. Не случайно картезианец И. Клауберг писал, что «обычно насчитывают три внутренних чувства: общее чувство, фантазия и память» (Clauberg J. Opera omnia philosophica. Amstelodami, 1691. P. 202).
(11) Рассуждая о необходимой связи простых природ, Декарт затрагивает и вопрос о сомнении Сократа (ср. с. 128 наст, тома). При этом в центре внимания Декарта оказывается способ достоверного познания простых природ (сомнения, истины и т. д.) и их сочетаний, а не познавательный статус сомневающегося я. Хотя примат субъекта над объектом (независимо от того, выражен ли он в унитарной трактовке достоверности или в тезисе о самотождественной «человеческой мудрости», обусловливающей единство научного знания синтетическим единством познающего ума) является основополагающим методологическим принципом «Правил», можно согласиться с замечанием одного из комментаторов о том, что в этом трактате «я никогда не появляется под своим собственным именем» (Marion J. -L. Sur l'ontologie grise de Descartes: Science cartesienne et savoir aristotelicien dans les Regulae. Paris, 1975. P. 181). Очевидно, в «Правилах» нашла свое отражение диалектика становления декартовского гносеологического эгоцентризма.
(12) Определение места как поверхности окружающего, или объемлющего, тела восходит к Аристотелю («Физика» IV 4, 212 а 20–21). Во второй схоластике было проведено различие между внутренним и внешним местом. В комментарии к «Физике» Аристотеля Франсиско де Толедо писал: «Действительное место двойственно. Одно — внутреннее место самой вещи, другое — внешнее. Внешним является место, объемлющее само занимающее место тело… Внутреннее же место вещи есть то самое пространство, которое сама вещь действительно занимает внутри себя сообразно своей массивности» (Franciscus Toletus. Commentaria una cum Quaestionibus in octo libros Aristotelis De physica auscultatione. In lib. IV. Text. 49. Q. 8. Goloniae Agrippinae, 1579. P. 122). Cyapec со ссылкой на Франсиско де Толедо сообщает: «Говорят, что «где» является внутренним местом, объемлющая же поверхность является внешним местом» (Suarez F. Metaphysicae disputationes. Disp. 51. Sect. 2. N. 4 (T. 2. P. 676)).
(13) Декарт воспроизводит определение движения, данное Аристотелем в «Физике» (III 1, 201 а 10–11). Критика аристотелевской дефиниции содержится и в «Трактате о свете» (см. с. 201 наст, тома).
(14) Английский физик Уильям Гильберт (1540–1603), который, по словам старшего современника Декарта Ф. Бэкона, «извлек из изучения магнита новое философское учение» (Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1977. С. 114), систематически изложил теорию магнетизма, опираясь на широкую экспериментальную базу. В предисловии к своему труду «О магните…» (1600) Гильберт писал: «Я… препоручаю эти основания науки о магните — новый род философии — только вам, истинные философы, благородные мужи, ищущие знания не только в книгах, но и в самих вещах. Если кое-кто не пожелает согласиться с мнениями и парадоксами, то пусть он все же обратит внимание на большое обилие опытов и открытий (благодаря которым и процветает главным образом всякая философия)» (Гильберт В. О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле. Новая физиология, доказанная множеством аргументов и опытов. М., 1956. С. 8). «Как следует относиться к опытам Гильберта?» — вопрос, который мог задать Декарту «кто-либо», был, по-видимому, поставлен (устно или в письме) другом Декарта М. Мерсенном, проявлявшим живой интерес к этим опытам (см.: Mersenne M. Quaestiones celeberrimae in Genesim. Lutetiae Parisiorum, 1623. Col. 549). Такой вопрос давал Декарту возможность лишний раз засвидетельствовать свое скептическое отношение к экспериментам других ученых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: