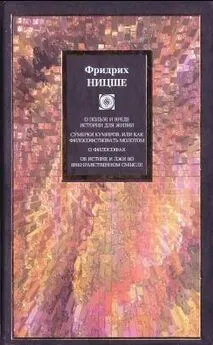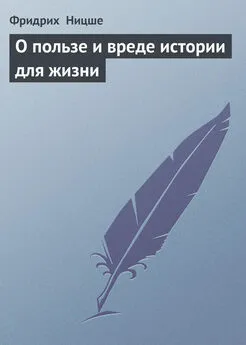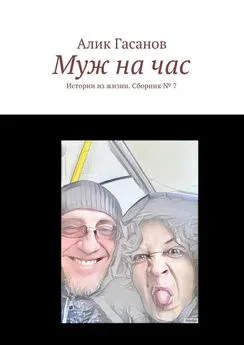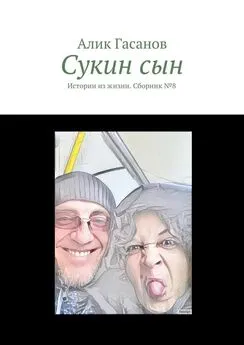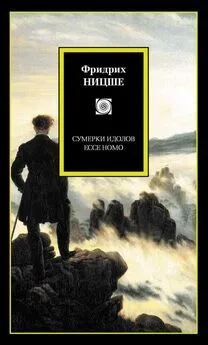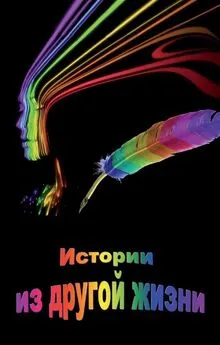Фридрих Ницше - О пользе и вреде истории для жизни (сборник)
- Название:О пользе и вреде истории для жизни (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Харвест
- Год:2003
- Город:Минск
- ISBN:985-13-1221-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - О пользе и вреде истории для жизни (сборник) краткое содержание
«О пользе и вреде истории для жизни» — одна из ранних работ выдающегося немецкого философа Фридриха Ницше, но в ней уже в полной мере проявились особенности его авторского стиля — парадоксальность мышления и афористичность изложения.
Также сборник содержит следующие работы: «Сумерки кумиров, или Как философствовать молотом», «О философах», «Об истине и лжи во вненравственном смысле», и «Заключительные замечания» — воспоминания сестры Фридриха Ницше, Елизаветы Ферстер-Ницше.
http://fb2.traumlibrary.net
О пользе и вреде истории для жизни (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы все еще не знаем, откуда происходит стремление к истине: ибо до сих пор мы слышали лишь об обязательстве, которое нам ставит общество — как залог своего существования, — обязательства быть правдивыми, т. е. употреблять обычные метафоры, или, выражаясь морально, об обязательстве лгать согласно принятой условности, лгать стадно в одном для всех обязательном стиле. Правда, человек забывает об этом; он лжет означенным образом несознательно и по привычке многих столетий — и благодаря этой несознательности и этому забвению приходит к чувству истины. Из обязательства называть одну вещь «красной», другую «холодной», третью «немой» возникает моральное побуждение к истине: из наблюдения лжеца, которому никто не верит, которого все сторонятся, человек делает заключение о том, что истина свята, полезна и пользуется доверием. Теперь он подчиняет свои поступки, как поступки «разумного» существа, господству абстракций; он больше не позволяет себе увлекаться внезапными впечатлениями и наблюдениями, он обобщает сначала эти впечатления, делая их бесцветными и холодными понятиями, для того чтобы привязать к ним челнок своей жизни и своих поступков. Все, что отличает человека от животного, зависит от этой его способности делать из ясных и осязательных метафор сухую схему, из картины — понятие. В царстве этих схем возможно то, что никогда не удалось бы среди непосредственных впечатлений — построить пирамиду каст и степеней, создать новый мир законов, привилегий, подчинений и ограничений, который соперничает с видимым миром непосредственных впечатлений, являясь более прочным, общим, более знакомым и более человеческим и поэтому — правящим и повелевающим Между тем как всякая наглядная метафора индивидуальна и не имеет себе подобной и не поддается поэтому никакой классификации, огромное здание понятий выказывает неподвижную правильность римского колумбария и в своей логичности дышит той строгостью и холодом, которые особенно свойственны математике. На кого подул этот холод, тот вряд ли поверит тому, что понятие, сухое и восьмиугольное. как игральная кость, и такое же передвижное, как она, все же является лишь остатком метафоры, и что иллюзия художественного перенесения возбуждая нерва в изображение есть если не мать, то бабушка всякого понятия. В этой игре в кости-понятия «истиной» называется употреблять каждую кость так, как ей определено, правильно считать ее очки, образовывать правильные рубрики и никогда не выходить за пределы кастового порядка и последовательности рангов. Подобно тому как римляне и этруски разделили все небо резкими математическими линиями и в каждом таком ограниченном пространстве, как в templum, поместили одного бога; точно так же и каждый народ имеет над своей головой такое же математически разделенное небо понятий и считает требованием истины, чтобы каждого бога-понятие искали в его сфере Можно только удивляться зодческому гению человека, которому на подвижных фундаментах, точно на поверхности текучей воды, удается воздвигнуть бесконечно сложное здание понятий — конечно, для того, чтобы удержаться на таком фундаменте, его постройка должна быть подобна сплетениям паутины, — такой нежной, чтобы ее могла нести на себе волна, такой прочной, чтобы не всякий ветер мог бы ее разрушить.
Как гений зодчества, человек стоит много выше пчелы: она строит из воска, который она находит в природе, он — из гораздо более нежного вещества понятий, которое он прежде должен создать из самого себя. В этом он достоин большого удивления, — но только не в своем стремлении к истине, к чистому познанию вещей. Если кто-нибудь прячет вещь за кустом, ищет ее именно там и находит, — то в этом искании и нахождении нет ничего особенно достойного прославления: но именно так обстоит дело с поисками и нахождением истины внутри области разума. Если я делаю определение млекопитающего и затем, рассмотрев верблюда, говорю: «вот млекопитающее» — то эти слова хотя и высказывают истину, но истину не слишком большой ценности; мне кажется, что она совершенно антропоморфична и не имеет в себе ни одного пункта, который «был бы сам по себе», был бы действительным и имеющим общеобязательное значение, независимо от его отношения к человеку. Исследователь таких истин ищет в сущности только метаморфозы мира в людях, он добивается понимания мира, как вещи человекоподобной, и в лучшем случае добывает чувство ассимиляции. Подобно тому как астролог считал, что звезды на службе у людей и находятся в связи с их счастьем и страданием, так и этот исследователь считает, что весь мир привязан к людям, что он — бесконечно преломленный отзвук первобытного звука — человека, что он — умноженный отпечаток одного первообраза — человека. Все его искусство в том, чтобы считать человека мерой всех вещей; при этом он все-таки исходит из ошибки, поскольку он верит в то, что вещи находятся перед ним непосредственно, как чистые объекты наблюдения. Таким образом он забывает, что первоначальные наглядные метафоры — метафоры и принимает их за сами вещи.
Только благодаря тому, что человек забывает этот первоначальный мир метафор, только благодаря тому, что отвердело и окоснело первоначальное множество быстро сменяющихся образов, возникших из первобытного богатства человеческой фантазии, только благодаря непобедимой вере в то, что это солнце, это окно, этот стол — есть истина в себе, — короче, только потому, что человек позабывает, что он — субъект, и притом художественно созидающий субъект — он живет в некотором спокойствии, уверенности и последовательности; если бы он на мгновение мог бы выйти из стен тюрьмы, в которую его заключила эта вера, тотчас бы пропало его «самосознание». Ему стоит уже большего труда представить себе, каким образом насекомое или птица воспринимают совсем другой мир, чем человек, и что вопрос, — которое из двух восприятий более правильно, — лишен всякого смысла, так как для этого пришлось бы мерить масштабом правильного восприятия, то есть масштабом несуществующим. Вообще же «правильное восприятие», т. е. адекватное выражение объекта в субъекте, кажется мне противоречием и нелепостью, ибо между двумя абсолютно различными сферами, каковы субъект и объект, не существует ни причинности, ни правильности, ни выражения, самое большее эстетическое отношение, т. е. своего рода передача намеками, как при сбивчивом переводе на совсем чужой язык: но для этого нужна во всяком случае посредствующая сфера и посредствующая сила, свободно мыслящая и свободно изображающая. Слово «явление» заключает в себе много соблазнов, поэтому я его по возможности избегаю: ибо сущность вещей не «является» в эмпирическом мире. Художник, у которого нет рук и который хотел бы выразить пением носящийся перед ним образ, при этой перемене сфер все же обнаружит больше, чем насколько эмпирический мир открывает нам сущность вещей. Даже отношение раздражения нерва к возникшему образу совсем не обязательно; но если один и тот же образ возникал миллионы раз и перешел по наследству через много поколений и под конец у всего человечества появляется каждый раз как следствие одной и той же причины, — то людям, наконец, кажется, будто это — единственно необходимый образ и что отношение первоначального возбуждения нерва к возникшему образу — есть отношение строгой причинности; так же как и сон, постоянно повторяясь, стал бы ощущаться нами как истина. Но отвердение и окоченение какой-нибудь метафоры еще не заключает в себе ничего, что бы объяснило необходимость и исключительное право этой метафоры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: