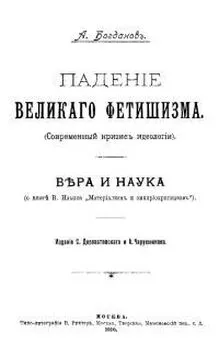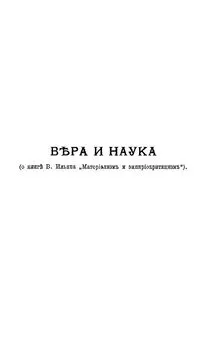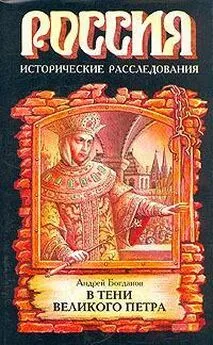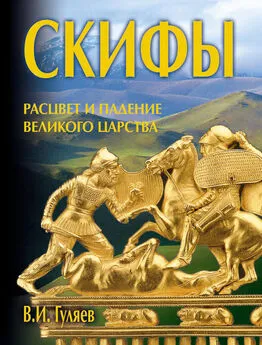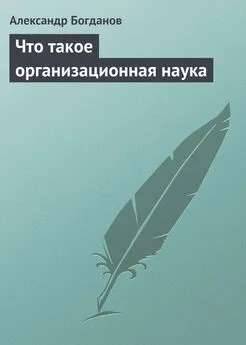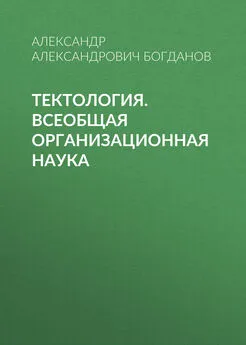Александр Богданов - Падение великого фетишизма / Вера и наука
- Название:Падение великого фетишизма / Вера и наука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание С. Дороватовского и А. Чарушникова
- Год:1910
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Богданов - Падение великого фетишизма / Вера и наука краткое содержание
В книге выдающегося отечественного философа и политического деятеля А. А. Богданова выясняются причины кризиса современной автору общественной идеологии и, шире, всей общественной системы, в том числе таких ее элементов, как деньги и власть. По его мнению, происходит не просто смена старых идеологических форм новыми, какая наблюдалась в прежних кризисах, но преобразование сущности идеологии, законов ее организации.
В книгу включена также статья автора «Вера и наука», содержащая ответ на критику взглядов А. А. Богданова в работе В. И. Ленина (публиковавшейся под псевдонимом В. Ильин) «Материализм и эмпириокритицизм».
http://ruslit.traumlibrary.net
Падение великого фетишизма / Вера и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обозначения предметов возникли, следовательно, из обозначений действий. Так санскритское слово «trina» — трава — происходит от корня tar , означающего «проникать», bhratar — брать — от корня ber, выражающего «нести»; конь «açva» оказывается тем же производным от корня eç — достигать, нагонять и т. д.
Все новое, всякая не существовавшая ранее форма вызывается к жизни только каким-нибудь движением, изменением, действием, и потому основными, первичными формами приходится считать те, которые наиболее тесно и непосредственно связаны с движением, с жизненной активностью. Из всех форм речи таковы именно глагольные. Недаром у китайских грамматиков существительные носят название «мертвых слов», глаголы — «живых слов». Все это ведет к тому же, окончательно упрочившемуся в науке выводу, что первичные слова-понятия, первичные «корни» идеологии представляют выражение действий; он подтверждается и массою данных относительно наиболее примитивных, наиболее отсталых в своем развитии из существующих языков и наречий.
В первобытной речи, — а значит и в первобытном мышлении, — содержание человеческого опыта выступает как мир действий — Энгельс называл это «первобытной диалектикой». Но, разумеется, в такой «диалектике» было бы ошибочно искать идею развития: то была эпоха наибольшего консерватизма жизни.
Эволюция, пережитая человеческой речью с ее зарождения до современной стадии культуры, так громадна, что даже самому живому воображению трудно ее себе представить. Язык высоко-культурного капиталистического общества, с его сотнями тысяч слов, выражений, оттенков, получился путем последовательной дифференциации, усложнения, разветвления ничтожного числа элементарных корней. О том, чем были первобытные диалекты, нам дают некоторое понятие языки наиболее отсталых диких племен центр. Африки и Южной Америки, сводящиеся к двум-трем сотням неизменяемых слов-корней. Благодаря медленному накоплению, в ряду тысячелетий, минимальных изменений звуков и оттенков в словах-понятиях, расхождение их доходило до такой степени, что утрачивалось в массе случаев всякое ощутительное сходство между ветвями, исходящими от одного начала, не только «внешнее» сходство звука, но и «внутреннее» сходство смысла. Сравнительное изучение множества языков и наречий в их историческом развитии, установление на этой основе «фонетических» законов — законов изменения и превращения звуков речи, — внимательный анализ множественных, соприкасающихся значений различных слов в родственных языках, — все это позволило филологам далеко в глубину времен проследить точные связи слов-понятий, особенно для нашей, арийской группы языков. Результаты оказались поражающие: генетическое единство было обнаружено там, где раньше предположить его не могла бы самая несдержанная фантазия. Для иллюстрации, я приведу один-два примера из гениально обоснованных выводов «лингвистической археологии» Гейгера.
Санскритский корень mard с его побочными корнями, возникшими из него путем исторической шлифовки его звуков — mar и mal, означает «растирать руками», «разбивать», «размельчать» и т. п. В латинском этот же корень выступает в виде «mordeo» — кусать; в немецком zer- mal men — то же, что в русском раз мал ывать, дробить; сюда же относится нем. Mehl (мука), Muehle — мельница, Mueller — мельник, и т. д. Русское « мел кий», « мал ый» выражает результаты того же действия — измельчения, дробления. Греческое μαλα kos и латинское mol lis — также результат растирания (надо заметить, что для корней характерны только согласные; гласные легко переходят в другую).
Но вот переносное значение того же корня: санскрит, mard us в греческом, с превращением одного губного звука в другой, «м» в «б» — βραδ us — означает «медленный», «вялый» т. е. собственно истертый или разбитый годами, жизнью. В русском слове « медл енный» имеется только перестановка двух согласных данного корня.
Через посредство готского «mulda» — мягкая земля — намечается другая линия развития значений, линия, которая в немецком приводит с одной стороны к «Meer» — море (представление о воде моря, как об особенно мягкой земной поверхности), с другой стороны к «Erde» — земля вообще (с утратой начального «м»). — Таким образом понятия «земли» и «моря» в немецком исходят из одного корня. Гейгер вспоминает по этому поводу слова римского поэта.
«Было в начале все вместе в бесформенно-смешанной массе;
Образ являли один море, земля, океан».
Эти стихи прекрасно выражают и то состояние, в каком находились идеологические элементы, слова-понятия, на заре развития человечества.
Продолжаем примеры разветвления того же корня. Усиленный посредством начального «с», что представляет довольно обычное фонетическое явление, он выступает в готском «smarna», немецком schmieren — натирать, мазать; с утратой «м», получается латинское sordes, с утратой «р» — немецкое Schmutz — оба слова означают грязь, то, что пачкает. Отсюда переход к понятию темной окраски — немецкое schwarz — черный (с превращением губных звуков — «м» в «в»). Славянское «смола» того же происхождения (вещество мажущее, темного цвета — «черный, как смоль» и т. под.) греческое μελας — черный. Верхне-немецкое «Mal» присоединяется сюда по основному своему значению — «знак», «пятно»; в отвлеченном смысле оно же — «раз» (то, что отмечается особым пятном, знаком). Рисовать по-немецки «malen». Далее немецкое Malz — «солод» примыкает к понятию размельчения, размалывания. Schmelzen — таять, Schmalz — сало: процесс размягчения, то, что размягчается.
Латинское mori — умирать, morbus — болезнь, немецкое Mord — убийство, славянское «смерть», исходят, очевидно, из понятия разбивать, раздроблять, вообще из оттенков, выражающих разрушение. Все это — еще только ничтожная доля несомненных продуктов дифференциации данного корня, не говоря уже о вероятных его разветвлениях (напр., по мнению Гейгера, латинское Malus — дурной, и melior — лучший принадлежат к нему же через промежуточное значение — мягкий, размельченный).
Как видим, производные одного и того же древнего слова-понятия распространяются решительно по всем областям опыта и на всех ступенях познавательной абстракции, дают названия всевозможным видам действий, предметов, свойств, отношений и т. д,
И это — отнюдь не исключительная особенность данного корня, а типическое, вполне обычное явление. Точно так же типичен и тот случай, когда формы, развивающиеся из одного начала, постепенно расходясь в своих значениях, приходят к полярной противоположности.
С этой стороны характерно развитие корня flag, от которого в европейских языках произошла масса слов, означающих свет, блеск, цвета. Замечу, что в производных формах этого корня последняя согласная (звук «г») может отсутствовать, звук «л» по законами фонетики может переходить при определенных условиях в звук «р», а «ф» в «б». Таким образом, к корню flag относятся латинские fulgeo — сверкаю, ferveo — горю; немецкие brennen — гореть, braun — бурый, коричневый, blinken — мерцать, blau — синий, Blei — свинец, bleich — бледный; французское blanc — белый, brun — коричневый; английское black — черный, русские «белый», «блеск» и т. д. Связь значений в некоторых случаях тут может показаться очень странной; но Гейгер дает ей очень удачное объяснение, соединяя корень flag с почти тождественным по звуковому составу frag, означающим — ломать (латинск. frango, греч. Τρηγνομι, нем. brechen и т. д.) Тогда, говорит Гейгер, ясно, что первоначальное значение тут — дробить, размельчать, затем через понятия — растирать, натирать, намазывать — совершился переход к краскам, от них к световым явлениям, к блеску, горению, молнии и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: