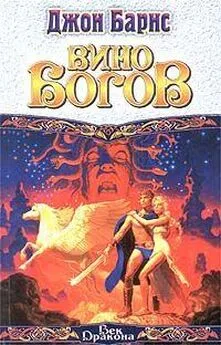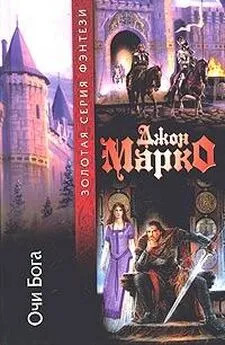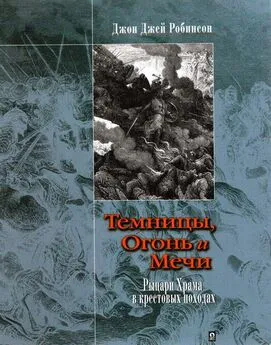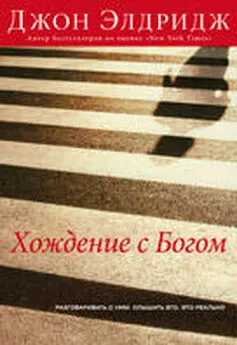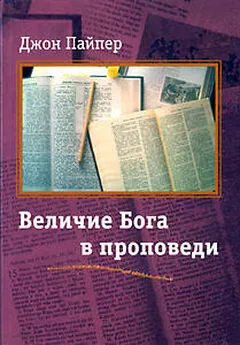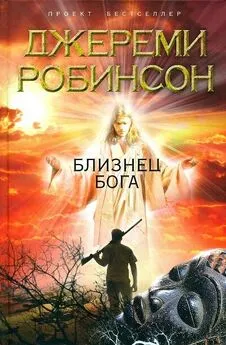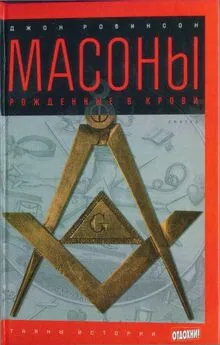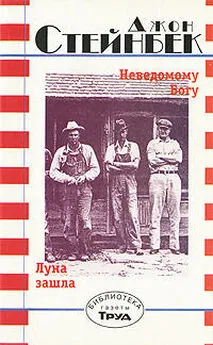Джон Робинсон - Быть честным перед Богом
- Название:Быть честным перед Богом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Высшая школа
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Робинсон - Быть честным перед Богом краткое содержание
Джон Робинсон
Быть честным перед Богом[1]
Книга широко известного современного английского теолога вводит читателя в круг основных проблем западного богословия XX в., знакомит с идеями его классиков — Тиллиха, Бонхёффера, Бультмана. Искренность, простота изложения, ориентация на широкую читательскую аудиторию, малознакомую с религиозной проблематикой, обеспечили необычайный успех книги: она переведена на 17 языков. Книга помогла многим преодолеть религиозный кризис, но и возбудила жаркие споры, вышедшие далеко за пределы богословских кругов.
Быть честным перед Богом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
“способны отключить телефон, хотя бы весь мир пытался прорваться к ним со своей крайней нуждой. Тем не менее, именно их мы склонны считать истинно религиозными, подлинно духовными людьми.
И наоборот, остальные, чувствуя, что они не созданы для этого, бросаются в практическую деятельность и без настоящей молитвы соскальзывают с “лезвия бритвы” в другую сторону. Шеренга брошюрок уволена в отставку, потому что телефон теперь звонит не умолкая. И мы теряем силы именно тогда, когда, серьезно раскрыв смысл древней святости, мы могли бы сказать веское слово нашему миру.
Остаются еще “непримкнувшие”, на которых, пожалуй, не может рассчитывать ни одна из двух партий. То они деятели, то они созерцатели, а телефоны у них только что замолчали. Они не годятся ни для затвора, ни для “войны с нуждой”.
Мы погружены в “здесь и теперь”. Мы знаем, какими мы должны быть. Но слишком часто, когда мы обращаемся к молитве, усиливается наша изоляция от мира, воскресает средневековье, и ни жизнь не становится значительной, ни молитва — настоящей” [196].
Куда нам деваться в этой ситуации? По существу, это тот же вопрос, который стоял перед Бонхёффером. И ответ, я думаю, надо искать в указанном им направлении. Я полагаю, мы должны очень серьезно задуматься, нужно ли пытаться связывать молитву с “выделенным” для нее временем, как будто молитва — это что-то такое, чем занимаются, отключившись от мира. Неужели христианская молитва, молитва в свете Воплощения должна определяться как уход от мира к Богу, а не проникновение через мир к Богу? Ибо по собственному опыту я могу сказать, что моменты откровения — это очень часто как раз моменты встречи и безусловной вовлеченности. Как легко дать человеку, который должен принять решение, благочестивый совет “пойти и наедине об этом помолиться”! Но я, честно говоря, должен признаться, что почти все озарения, которые посещали меня в связи с теми или иными решениями, приходили не тогда, когда я удалялся и поворачивался к проблеме спиной, но именно тогда, когда я ломал голову над всеми практическими доводами “за” и “против”, обычно — вместе с другими людьми. И мне кажется, что вот такая деятельность, предпринимаемая с христианским упованием и с надеждой, что Бог здесь, — это и есть молитва.
Это, наверное, можно выразить и иначе, сказав, что традиционная духовность придавала первостепенную важность “внутренней жизни”, которая рассматривалась как духовное ядро человека. Но Бонхёффер указывает, что Библия ничего не знает о таком предпочтении: "Сердце" в библейском понимании — это не "глубины души", а весь человек, такой, каким он стоит перед Богом”. А далее он высказывает убедительные наблюдения, что для Библии “человек живет, исходя как из "внешнего", так и из "внутреннего"” [197]. Я думаю, что это глубоко верно для огромного числа людей, быть может, даже для большинства. Для них “реальная жизнь — это встреча” . Конечно, и они подвержены ритму вовлеченности и отстраненности — даже способность организма к продуктивной работе зависит от качества отдыха. Тем не менее наши физические способности оцениваются всё же в часы бодрствования. И для таких людей “моление их — в делании” (Сир. 38:39) [198]. Периоды уединения, естественно, бывают необходимы, но вовсе не обязательно считать эти периоды особенно “святыми”; они не обязательно даже более “религиозные” (в смысле посвящения их духовным упражнениям). Это прежде всего периоды отдыха, сосредоточения, которые позволяют прорасти корешкам любви, а различные процессы действия или бездействия могут удобрить для них почву.
Я совсем не хочу сказать, что можно обходиться без периодов “отстраненности”. Сам я смог написать эту книгу лишь благодаря тому, что у меня как раз выдался один из таких периодов. И это хороший пример того, как, по-моему, эти периоды должны соотноситься с жизнью. Я принадлежу к таким людям, к которым всё, что они думают и пишут, приходит через погружение в работу. Я вообще могу думать почти исключительно в процессе писания — буквально с пером в руке. И без постоянного стимула в виде проблем, которые надо решать, людей, которым нужно помогать, учеников, которых надо учить, мне ничего и в голову не приходит. Изолируйте меня от мира — и у меня в голове всё остановится: нечего будет перемалывать. Есть, конечно, и другая сторона дела. Пословица говорит: “Божьи жернова медленно мелют” [199]. Мои тоже. Промежуток свободного времени и изоляции (хотя бы от телефона) необходимы, чтобы дозрел какой-нибудь плод.
Я думаю, что и молитва должна строиться по такому же образцу. Это, конечно, не значит, что “отстраненность” не нужна, но точка Пятидесятницы [200], если можно так выразиться, — в деятельности, в вовлеченности. Чтобы пояснить, в чём разница, позвольте мне некоторую бестактность: я предложил бы в качестве контраста взгляды моего дяди Форбза Робинсона [201]. Его “Письма к друзьям” [202]так ярко иллюстрируют “мирскую духовность” обычного образца. Форбз постоянно говорил: “Я вижу то-то и то-то; прежде всего я должен выделить час, чтобы помолиться за него” — или даже: “Лучшая ему помощь — это помолиться за него часок”. А мне кажется, что из этого ничего на деле не выходит, и я думаю, что так получается не только из-за моего несравнимо более слабого молитвенного горения. Мой собственный опыт показывает мне, что я по-настоящему молюсь за людей, вместе с Богом страдая за них, как раз тогда, когда я встречаюсь с ними и действительно отдаю им свою душу. Именно тогда, при ощутимом, воплощенном контакте “бездна бездну призывает” [203], а Дух Божий подхватывает наши неизреченные воздыхания и претворяет их в молитву [204]. И уже потом я чувствую потребность уединиться, чтобы, так сказать, запечатлеть на скрижалях и представить пастве откровение, полученное на горе [205].
“НЕРЕЛИГИОЗНОЕ” ПОНИМАНИЕ МОЛИТВЫ
Это, по-видимому, отправная точка для нерелигиозного понимания молитвы. Мы можем начать с того факта, что люди отдают себя ради других. В этом нет ничего “религиозного”. Но безусловно открыть себя для другого в любви — это ведь и значит быть с этим другим в присутствии Божием, что составляет самую суть молитвенного предстательства. Молиться за другого — значит раскрывать как себя, так и другого обшей основе нашего бытия; соотносить свою заботу о нем с последней, наивысшей своей заботой; впустить Бога в ваши отношения. Молиться за другого — значит быть с ним на этой глубине — в молчании, в сострадании или в действии. Такая молитва может заключаться просто в слушании, когда мы со всей сосредоточенностью воспринимаем “инакость” другого человека [206]. Молитва не обязательно сводится к разговору о нём с Богом, как будто с третьим лицом. Ты, к которому мы обращаемся, может быть Ты нашего ближнего, но при этом мы можем обращаться к нему и отвечать ему на таком уровне, на каком возможно говорить, лишь познавая его в Боге и Бога в нём. Такая молитва может не быть специфически религиозной и даже осознанно христианской, однако она может стать встречей со Христом в этом человеке, поскольку мы “безоговорочно всерьез” принимаем его в его человечности. Путь к видению Сына Человеческого и к познанию Бога (в чём и состоит суть созерцательной молитвы) заключен в безусловной любви к ближнему, к тому, кто рядом с нами [207].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: