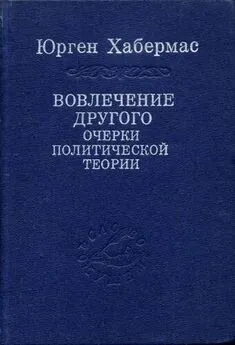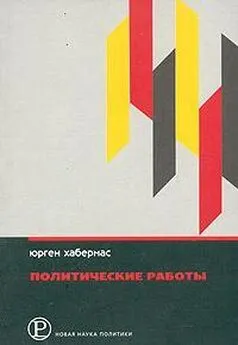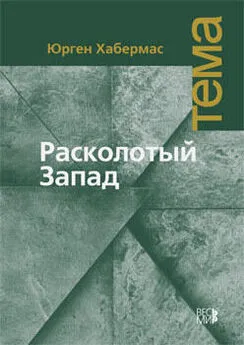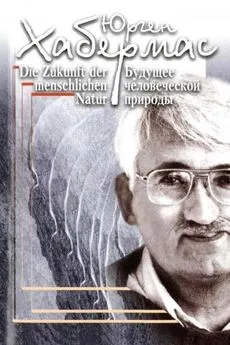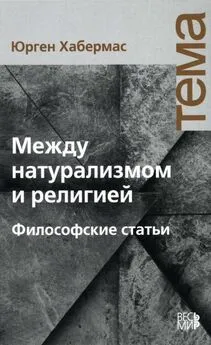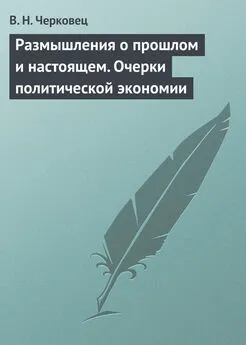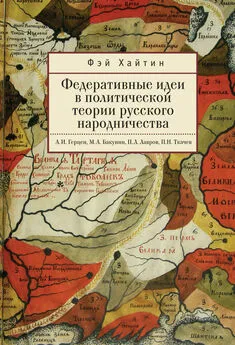Юрген Хабермас - Вовлечение другого. Очерки политической теории
- Название:Вовлечение другого. Очерки политической теории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-02-026820-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрген Хабермас - Вовлечение другого. Очерки политической теории краткое содержание
Сборник, увидевший свет в издательстве «Зуркамп» в 1999 году, содержит новейшие и основополагающие исследования по политической теории, которые автор проводил, самостоятельно развивая свою теорию коммуникации, а также в сотрудничестве со своими единомышленниками и учениками, на академических семинарах и в открытых дискуссиях. Основная тема исследований имеет более практический, прикладной политический смысл, хотя и получает исчерпывающее теоретическое обоснование с позиций герменевтической социологии и исторической политологии. Чрезвычайно актуальная проблематика трактуется из органического контекста всех прежних теоретических изысканий Хабермаса, главной задачей научной деятельности которого всегда был поиск путей сохранения рационального начала западной цивилизации, возможностей диалога и взаимопонимания между различными и изначально несводимыми друг к другу культурно-историческими образованиями, рациональное понимание многосложного мирового политического процесса исходя из истории действующих в нем реалий и идей.
http://fb2.traumlibrary.net
Вовлечение другого. Очерки политической теории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако недавно введенный в обращение термин «этнонационализм» настораживает сторонников либерального проекта. Наоборот, демократы опираются на понятие народа, содержащего следы прошлого, сублимацией которых, собственно, и является республиканский проект. [7] Республиканцы и демократы как политические партии в Америке, конечно, различаются по своим программам и стратегиям, однако с философской да и с обыденной точки зрения различие между ними вовсе не является категорическим.
Согласно демократической схеме, народ утверждается актом конституции, хотя последняя сама определяется как выражение воли народа. Отсюда принадлежность к «народу» оказывается некой судьбой, а не выражением свободной политической воли. Важная роль в развитии этого тезиса принадлежит Карлу Шмитту, который в ходе интерпретации конституции Веймарской республики собственно и сформулировал идею национального государства: «Демократическое государство, которое находит предпосылки своей демократии в национальной однородности своих граждан, соответствует так называемому национальному принципу, согласно которому нация образует государство, а государство — нацию». [8] Schmitt С. Verfassungslehre. (1928). Berlin, 1983. S. 231.
В концепции национальной демократии формирование политической воли представляется как единодушие представителей гомогенной нации, которая мыслится в качестве естественного субстрата государственной организации: все хотят одного и того же и возгласами выражают принятие или неприятие той или иной альтернативы. Отсюда демократическое равенство трактуется не как право на участие в публичной дискуссии, а как причастность к коллективу, к нации. Отличие народа от «человечества», на понятие которого опирается концепция прав человека, приводит концепцию национальной демократии в вопиющее противоречие с разумно-правовым республиканизмом. Последний считает народ продуктом общественного договора, стремления жить по законам публичной свободы. Первоначальное решение приступить к автономному демократическому законодательству осуществляется как правовой акт взаимного признания друг друга в качестве субъектов положительного права. Основные права вытекают здесь не из априорного существования народа, а из идеи правовой институализации процедуры автономного законодательства. Положительное право легитимируется не справедливостью, а посредством демократических процедур. Если все принимают участие в законодательном решении, в акте учреждения конституции, то это обеспечивает всем, даже чуждым друг другу людям, равные права и устраняет произвол власти. Но хотя конституция написана от имени народа, она вовсе не реализует его интересов. Более того, она принимается решением большинства и не оставляет для меньшинства иной формы реализации права на протест, кроме террористических актов. Таким образом, нельзя не заметить и здесь той же самой трудности, что в субстанциалистском допущении «народа». Более того, решение жить на основе формального права выглядит произвольным, а не мотивированным. Возможно, в Европе оно вызвано ужасами Тридцатилетней войны. Но в этом случае срабатывает то же самое, что и у Шмитта, исторически случайное или, наоборот, априорное допущение об изначальном зле человеческой природы, которое преодолевается свободным выбором жизни в условиях правового государства. Отсюда следует, что «мирные народы», если они, конечно, не миф, наподобие мифа о русском народе-богоносце, не нуждаются, как считали некоторые славянофилы, в рационально-правовом государстве, ибо живут согласно принципам справедливости. Государство «необходимости и рассудка» имеет своей предпосылкой существование эгоистичных автономных индивидов, не имеющих традиций и находящихся в злобно недоверчивых отношениях друг к другу. Но даже в США формирование политической воли достигалось, скорее, на основе морального признания, чем рационального договора.
Хабермас видит следующий выход в интерсубъективном понимании процедуры народного суверенитета: место частноправовой модели договора между субъектами рынка занимает совещательная практика участников коммуникативного процесса. Формирование общественного мнения и политической воли осуществляется не только в форме компромиссов, но и по модели публичных дискурсов, нацеленных на рациональную приемлемость правил в свете общих интересов и ценностных ориентации. Субъекты права — это не собственники самих себя и не солидарные частицы целого — народа, а индивиды, достигающие в процессе коммуникации нравственного признания друг друга, что и обеспечивает социальную интеграцию автономных индивидов.
Как определить базовую совокупность тех лиц, с которыми должны быть легитимно соотнесены гражданские права? По Канту, каждый человек может пользоваться равными свободами, открыто провозглашенными принудительными законами. Однако это формальное условие не определяет, кто с кем объединится на этой основе. Как можно быть уверенным в том, что другой будет поступать так, как и ты, всякого ли другого признают равным себе? Так американцы признавали европейцев, но боялись и ненавидели индейцев, за скальп которых выдавалось сто долларов яж до 1860 г. Но даже в рамках своего мира народ определялся по отношению к чужому. Прежде чем говорить о формальном праве на участие в демократическом процессе, следует решить более важный вопрос о том, как совокупность людей превращается в «народ». В ходе французской и американской революций граждане боролись за свои республиканские свободы либо с собственным правительством, либо с колониальным режимом, что и задавало границу своего и чужого.
Наиболее естественным ответом на поставленный вопрос является ссылка на существование национального государства, в контексте которого, собственно, и может быть осуществлен демократический процесс. Та или иная народность применяет право на национальное самоопределение. Однако такой путь опасен для мультинациональных государств, которые будут вынуждены устраивать этнические чистки. Но и национальное гомогенное государство формировалось не в пустоте, а в борьбе с соседями, охватывало и ассимилировало другие этносы. Репрессии приводили к протесту, но добившиеся самостоятельности этнические нации сами начинали преследовать чужих и прибегали к насилию вплоть до физического уничтожения.
Очевидно, что с целью преодоления подобных эксцессов следует во главу угла поставить права человека, которые нарушаются не только в многонациональных, но и в гомогенных национальных государствах. Отсюда возникает вопрос о границах права наций на самоопределение. Пока граждане пользуются равными правами и никто не подвергается дискриминации, не существует нормативных оснований для отделения. Однако на практике обнаруживается, что нередко именно демократический процесс, осуществляемый большой нацией по отношению к малой, разрушает ее культурную идентичность. Право вовсе не нейтрально, оно радикально меняет личный образ жизни, затрагивает семью, брак, воспитание детей, язык, образование и т. д. Как могут быть урегулированы подобные вопросы, если отказаться от скрытого насилия? Очевидно, что их нельзя решить путем бесконечной фрагментации общества. Выход видится в различии не только культуры большинства и меньшинства, но и в формировании такой общей политической культуры, которая не навязывала бы меньшинствам традиции, ценности и права большой нации. Согласно принципу мультикультурализма, члены каждой культурной группы должны разделять общий политический язык и сформулировать правила участия в борьбе за реализацию собственных интересов. И в рамках бывшего СССР, который объявляют чуть ли не тюрьмой народов, на самом деле (задолго до канадского конфликта) было найдено решение, сохранявшее как территориальную целостность, так и культурную автономию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: