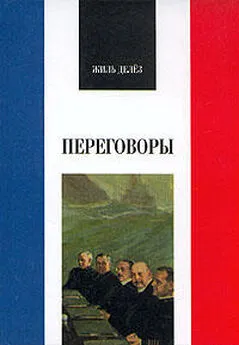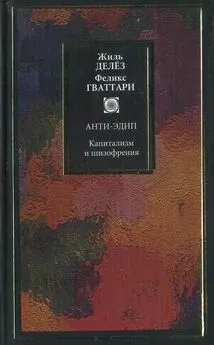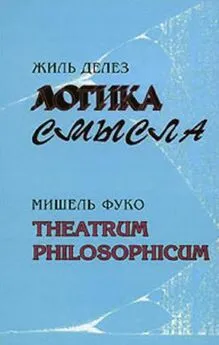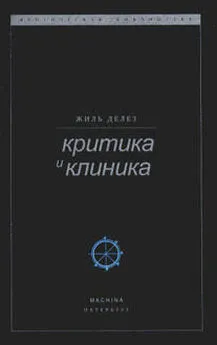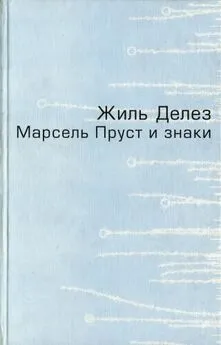Жиль Делез - Переговоры
- Название:Переговоры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-02-026845-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жиль Делез - Переговоры краткое содержание
Цель и смысл книги представляет собой собрание отдельных писем, интервью и коротких статей, написанных автором почти за двадцать лет. Название ее — «Переговоры» — нужно понимать в духе военной стратегии и тактики, а если кто-то усматривает в ней и дипломатические нюансы, то речь может идти только о дипломатии как продолжении боевых действий иными средствами. Новейшая философия, отказавшись от сотрудничества с властью, обрекла себя на перманентную войну со всеми ее ликами.
http://fb2.traumlibrary.net
Переговоры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следует говорить о творчестве как движении по дороге невозможного… Это объяснил еще Кафка: невозможность для писателя-еврея говорить на немецком, невозможность говорить на чешском, невозможность не говорить. Пьер Пьерро обнаруживает здесь проблему: невозможность не говорить, говорить на английском, говорить на французском. Творчество совершается в безвоздушном пространстве. Даже в рамках данного языка, например французского, какой-то новый синтаксис — это новый язык внутри этого языка. Если творец не страдает от удушья невозможного, это — не творец. Творец — тот, кто создает для себя невозможное и кто в то же самое время создает возможность. Как Мак-Инрой, когда стучатся головой о стену, то находят выход. Нужно расшатывать эту стену, потому что если нет невозможного, не будет и той трещины, того прохода, на котором возникает творчество, того могущества лжи, благодаря которому появляется истина. Следует писать жидкостью или газом, так как обыденное мнение и восприятие являются твердыми, геометрически правильными. Именно это делал Бергсон в философии, Вирджиния Вульф или Джойс в литературе, Ренуар в кинематографе (в кинематографе экспериментальном, который весьма далеко заходит в исследовании состояний материи). Но нельзя совсем покидать землю. Следует стать земным в такой степени, чтобы найти законы жидкости и газа, от которых зависит земля. В таком случае стиль нуждается в большом объеме тишины и работы, чтобы можно было создать вихрь в пространстве и затем унестись вверх, как спичка в потоке воды, за которой следят дети. Разумеется, это не значит создавать слова, комбинировать фразы, использовать идеи, благодаря которым создается стиль. Следует обнажить слова, рассечь фразы, чтобы высвободить векторы, которые являются векторами земли. Всякий писатель, всякий творец является тенью. Как написать биографию Пруста или Кафки? Из всего, что описывается, тень является первой в своем отношении к телу. Истина — это производство экзистенции. Это определенная вещь, которая существует не в голове, а в реальности. Писатель отталкивается от реальных тел. В случае с Пессоа — это воображаемые персонажи, но воображаемые не в такой степени, чтобы он сам сообщал им определенный почерк, определенную функцию. По преимуществу не он сам делает то, что делают его персонажи. Нельзя далеко уйти в литературе с системой «многое увидишь, путешествуя», когда автор сначала создает вещи, а затем рассказывает. Нарциссизм авторов отвратителен, потому что не может быть нарциссизма у тени. Здесь интервью заканчивается. Все это имеет значение не для того, кто собирается пересечь пустыню, имея для этого время и терпение, но для молодых писателей, которые родились в пустыне, так как они рискуют увидеть ничтожность своего произведения еще до того, как оно появилось на свет. И однако, нельзя допустить, что уже не появилась на свет новая раса писателей, которые уже находятся там ради работы и стиля.
«L'Autre Journal». № 8. Октябрь 1985 г.
(беседа с Антуаном Делором и Клер Парне).
О философии
— Вы публикуете новую книгу «Складка, Лейбниц и барокко». Можете ли вы проследить маршрут, который привел вас от исследования о Юме («Эмпиризм и субъективность») к Лейбницу? Если следовать за хронологией ваших книг, то следует сказать, что после первого этапа, посвященного работам по истории философии, которые, возможно, завершаются книгой «Ницше» (1962), вы, работая над «Различием и повторением» (1969), затем над двумя томами «Капитализма и шизофрении» (1972 и 1980), написанными вместе с Феликсом Гваттари, создали собственную философию, стиль которой ничуть не похож на академический. Сегодня кажется, что после книг о живописи (о Бэконе) и кино вы вновь возвращаетесь к классическому подходу к философии. Осознаете ли вы сами такое движение? Следует ли рассматривать вашу работу как целое, в единстве? Или, напротив, вы видите разрывы, трансформации?
— Три периода уже позади. Действительно, я начинал с книг по истории философии, но все авторы, которыми я занимался, имели для меня нечто общее. И все сходилось к величайшему тождеству Спиноза — Ницше. История философии не является дисциплиной, основанной на какой-то особой рефлексии. Это, скорее, как искусство портрета в живописи. Это — портреты ментальные, концептуальные. Как и в живописи, их следует сделать похожими, но для этого нужно использовать другие средства, которые не представляют собой подобие оригиналу: сходство должно быть создано, и не посредством воспроизведения (довольствуясь пересказом того, что сказал философ). Философы приносят с собой новые концепты, они показывают их, но они не говорят или не комплектуют те проблемы, которым эти концепты соответствуют. Например, Юм демонстрирует оригинальный концепт веры, но он не говорит, почему и как проблема сознания ставится таким образом, что сознание оказывается обусловленным модусом веры. История философии не должна повторять то, что сказал какой-либо философ; она должна говорить о том, что он неизбежно подразумевал то, о чем он не говорил, но что, однако, присутствовало в том, что он говорил.
Философия всегда предполагает изобретение концептов. Меня никогда не заботило ни преодоление метафизики, ни смерть философии. Философия обладает функцией, которая всегда остается актуальной, — это создание концептов. Никто не может занять ее места. Разумеется, у философии всегда были соперники, начиная с собеседников в диалогах Платона и кончая шутом Заратустры. Сегодня это информатика, коммуникация, торговля, которые осваивают слова «концепт» и «творческий», и эти «концепторы» представляют нахальные люди, изображающие акт продажи как вершину капиталистической мысли, как cogito товара. Философия чувствует себя маленькой и одинокой перед столь могущественными силами, но если ей суждено умереть, то по крайней мере это будет смешно. Философия не является коммуникацией, как не является она ни созерцанием, ни рефлексией: она представляет собой творчество, и даже революционное по своей природе, так как она постоянно создает новые концепты. Единственное условие — чтобы они обладали определенной необходимостью, а также были странными, необычными, и они обладают всем этим в той мере, в какой соответствуют подлинным проблемам. Концепт — это то, что мешает мысли стать простым мнением, сообщением, обсуждением, болтовней. Любой концепт неизбежно является парадоксальным. Это философия, которую мы пытаемся создать, Феликс Гваттари и я, в «Анти-Эдипе» и в «Тысяче плато», главным образом в «Тысяче плато», которая является важной книгой и где предлагается множество концептов. Мы не сотрудничали, мы делали одну книгу за другой, не в смысле чего-то единого, но как бесконечную статью. У каждого из нас было прошлое и предшествующая работа: у него — в психиатрии, в политике, в философии, у меня — «Различие и повторение» и «Логика смысла». Но мы не сотрудничали как личности. Мы были, скорее, как два ручья, которые сливаются в «единое» третье, которым мы и становились. Кроме того, в философии всегда был такой вопрос: как истолковать «фило»? Философия, таким образом, была для меня производным, вторичным этапом, который никогда бы не начался и не закончился без Феликса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: