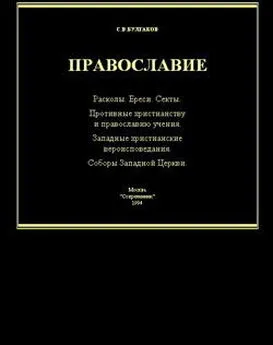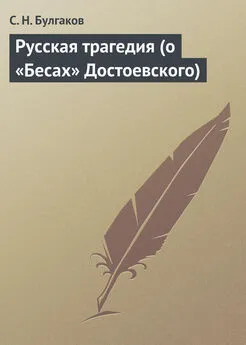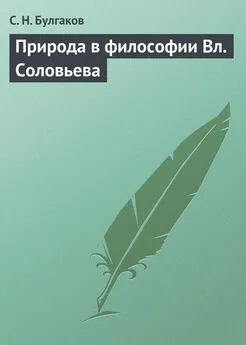Сергей Булгаков - Трагедия философии
- Название:Трагедия философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Булгаков - Трагедия философии краткое содержание
Трагедия философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но здесь мы становимся лицом к лицу с наиболее жгучей и трудной проблемой - многоипостасности бытия, единства сказуемого - при множественности подлежащих, единства во множестве и множества во единстве. Единый мир имеет неопределенное множество обладателей - ипостасей, единая природа духа, которая раскрывается в мире, многолика.
И, прежде всего, откуда мы? Как каждое в себе замкнутое я, невольно мнящее себя абсолютным Я, узнает другое я, где и как совершается переход к ты, как возникает мы? Эта проблема является в равной степени жгучей и роковой как для Канта, так и для Фихте, и оба они не заметили ее, прошли мимо нее. А между тем об нее должно было бы разбиться все их построение. Для Канта, который объективное суждение определяет как всеобще значимое, т. е. для всех умов или всех я обязательное суждение, пришлось бы все свое гносеологическое учение об я как логической функции, о трансцендентальной апперцепции, пересмотреть при свете факта гносеологического (а затем необходимо и онтологического) существования ты и мы. Еще больше затруднения для Фихте, который не меньше Канта предполагает наличие множества индивидов, вместить чужое я в его схемы я и не-я, ибо ты не есть ни то, ни другое, и все наукоучение должно быть целиком пересмотрено и перестроено при свете ты.
Главное затруднение здесь состоит в том, что ты, чужое я, ни в каком смысле не есть сказуемое, или образ бытия для я, для ипостасного подлежащего, а в то же время оно есть не-я, объект. Каждое я естественно делает себя абсолютным и единственным, и Штирнер в своем философском памфлете только раскрыл эту эгоистическую природу я (хотя и у Штирнера неожиданно и непоследовательно "эгоисты" появляются также во множественном числе и даже образуют "союз"). Переход от единственного числа уже к двойственному или все равно множественному отнюдь не представляется таким легким и само собою понятным, как это может казаться по таблицам грамматических склонений. Он в своем роде не менее таинственен и изначален, как и переход от подлежащего к сказуемому, осуществляющийся также в тривиальном и как будто ясном, а на самом деле исполненном глубокой тайны суждении. Как может я заметить, увидать ты, т. е. свое собственное подобие и повторение? Не сказуемое, но со-подлежащее, не объект, но со-субъект? Этот акт настолько первоначален и чудесен, что для него нет и не может быть объяснения, возможно лишь констатирование, а затем надлежащий учет и оценка. Ведь речь идет не о психологическом изучении чужого я и даже не о гносеологической "интроекции" (хотя это слово, изобретенное Авенариусом, не говорит здесь ровно ничего), но об онтологическом касании чужого я, о постижении его как сущего. Мы можем указать, где лежит задание для другого я, для ты и мы: это в природе сказуемого как всеобщего, бытия, отрешенного от исключительной связи с его индивидуальным образом. Хотя Я есть и "der Einzige", но мир, которым оно владеет как сказуемым не ощущается им как "sein Eigenthum" [62]или, по крайней мере, как только его собственность. Напротив, хотя сказуемое и соединено с субъектом связкой бытия, тем не менее мир - ничей, т. е. общий, и именно в самой природе суждения, как общего и общезначимого, есть молчаливый, но достаточно выразительный жест в сторону мы, есть место для мы. Всматриваясь в природу субъекта, ипостасности, мы с удивлением видим, что хотя я является обособляющим, отталкивающимся центром, но в нем, как в мировой силе тяготения, наличествует и сила притягивающая. Иначе говоря, самой природе я присуще предположение других я, неединственности своей. Я становится непонятным, разлагается, теряет всю свою упругость, как только мы попытаемся мыслить и ощущать его единственным, без всякого ты (да мы и не можем такое требование осуществить). Вне ты и я теряет свои краски и блекнет. Как это так, объяснить и сказать нельзя, но это так: я подразумевает не только не-я (в фихтевском смысле, т. е. сказуемое), но и ты, и мы или со-я. Я и на самом деле себя ощущает как единственное число от множественного мы, и как первое лицо по отношению ко второму - ты и вы - и третьему - он, они. И если бы это было не так, то ни ты, ни мы не были бы возможны и не существовали бы. Следовательно, в самой природе я включена множественность, ипостасность предполагает не единоипостасность, но многоипостасность, много я при едином не-я, или сказуемом, или мире. Вот мимо чего вслед за Кантом прошел Фихте, не зацепившись за проблему я больше, чем нужно было для дедукции не-я.
Множественность я есть основная аксиома мысли и жизни, ее довольно показать и нельзя не увидеть, ее, сверх того, нельзя и не нужно доказывать. Невозможность доказательства достаточно явствует из того, что я как сущее лежит вне мира бытия и, стало быть, не может быть рассматриваемо и доказуемо его логикой. В отношении к я возможны только аподиктические суждения, аксиомы, имеющие значение констатирования факта. Я не сознает себя единственным, напротив, оно предполагает неопределенное множество других ипостасей. С этим не только мирится его φύσις, природа сказуемого, но даже предполагает, если не прямо требует, такой множественности. Сказуемое имеет всеобщий характер, говоря логически, оно есть всегда общее понятие; говоря откровенно, мир есть общая сфера бытия для множества ипостасей. Поэтому на одной стороне множественность - Allheit, на другой же всеобщность - Allgemeinheit, обе общности смыкаются в круг в мировом всечеловеческом суждении: все познают все, все суть всё.
Таким образом, я представляет собою нечто совершенно своеобразное. С одной стороны, всякое я, вернее, мое собственное я - единственно, в этом смысле оно абсолютно индивидуально; но в то же время оно оказывается некоторым genus, видом, ибо столь же непосредственно, как и я, дано ты и мы, и в сознание я входит это сознание себя как члена мы. Логически и гносеологически из я в ты и мы нет никакого пути, за эту дедукцию не взялся даже все дедуцировавший Фихте. Можно при желании расположить триединство: я-ты-мы по гегелевской триаде, изобразив ты как антитезис я, а мы как синтез тезиса я и антитезиса - ты. Однако эта невинная игра в триаду, которая может быть упражнением по Гегелю, только обходит трудность и смазывает благополучием гегелевских непротиворечивых противоречий острую и колючую антиномию я. Я есть я, и это я в свою очередь есть я и т. д. Всякое я самозамкнуто и единственно, оно не имеет окон, как лейбницевская монада. И это же самое я знает не только не-я (чем думал исчерпать и ограничить его ведение Фихте), но знает другие я-ты и мы, а стало быть, и себя знает как ты и мы, и в себе знает чужое я. Одним и тем же актом, которым я сознает, по-фихтевски "полагает" себя как я единственное, оно знает или "полагает" себя как генерическое, со-ипостасное. Итак, ипостась одновременно единственна и неединственна, и примирить эту антиномию, обломав ее острия, приручить и превратить в невинное Гегелево противоречие нет возможности. Оказывается, что самое достоверное в нас и для нас то, в чем Декарт думал найти που̃ στω̃ [63], опору и успокоение от сомнения, понятное и достоверное начало, содержит в себе разверстую бездну.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: