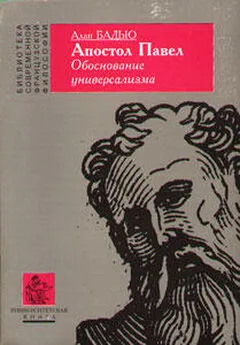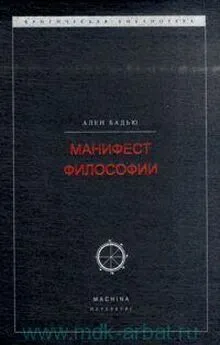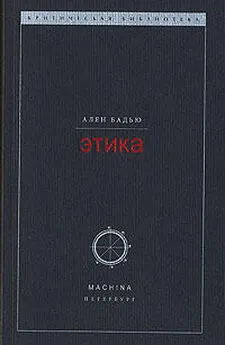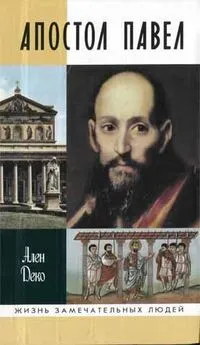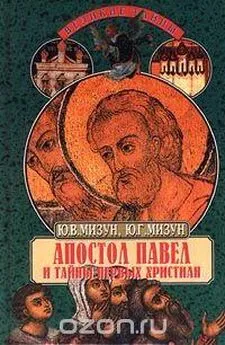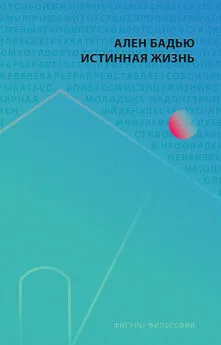Ален Бадью - Апостол Павел. Обоснование универсализма
- Название:Апостол Павел. Обоснование универсализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский Философский фонд, Университетская книга
- Год:1999
- Город:Москва, С-Пб
- ISBN:5-85133-062-7, 5-7914-0008-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ален Бадью - Апостол Павел. Обоснование универсализма краткое содержание
В книге излагается оригинальная секуляризованная трактовка учения и деятельности апостола Павла как фигуры, выражающей стремление к истине, которая в своей универсальности противостоит всякого рода абсолютизированным партикулярностям — социальным, этническим и пр.
Книга дает ясное представление об одном из заметных течений современной французской философской мысли и будет интересна не только для специалистов — историков, религиоведов и философов, но и для самых широких гуманитарных кругов читателей.
http://fb2.traumlibrary.net
Апостол Павел. Обоснование универсализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Самый простой ответ заключается в том, что «Еллин» равносилен «язычнику», и что за множеством народов скрывается противоположность между иудейским монотеизмом и официальным политеизмом. Но этот ответ не кажется убедительным, поскольку, говоря о греках (или о «Еллине»), Павел весьма редко соотносит эти слова с религиозным верованием. В основном, вопрос ставиться именно о мудрости, и, стало быть, о философии.
Главное понять, что в лексике Павла слова «Иудей» и «Еллин» практически не означают ничего из того, что нам непосредственно могло бы слышаться в слове «народ», — скажем, совокупность людей, объективно воспринимаемых через их верования, обычаи, языки, территории и т. д. Речь не идет также об оформленных и узаконенных религиях. В действительности, «иудей» и «грек» — субъективные диспозиции. Точнее, речь идет о том, что подразумевает Павел под двумя когерентными интеллектуальными фигурами того мира, в котором он жил. Или о том, что можно назвать режимами дискурса. Теоретизируя об «иудее» и «греке», он, в действительности, предлагает нам топику дискурсов. И эта топика уготована для размещения третьего, собственного дискурса, чтобы выявить тем самым полную его оригинальность. Так же как Лакан — мысливший аналитический дискурс только как вписанный в подвижную топику, в которой он соединяется с дискурсом мэтра, дискурсом истерика и университетским дискурсом — Павел создает «христианский дискурс» путем отграничения его действия от действий иудейского и греческого дискурсов. Аналогия тем более поразительна, что Павел — как мы это увидим — осуществляет свой замысел, вводя в качестве предела для своего собственного дискурса, четвертый дискурс, который мы могли бы назвать мистическим. Вся топика дискурсов словно образует четырехугольник. Но разве Гегель не прояснил этот момент, когда показал в конце своей Логики, что абсолютное знание диалектической триады требует четвертого термина?
Что представляет собой иудейский дискурс? Субъективной фигурой, создающей его, выступает пророк. Пророком же является тот, кто мобилизует знамения, кто их производит, свидетельствуя о трансцендентном и разгадывая таящиеся во тьме шифры. Таким образом, можно считать, что иудейский дискурс — это, прежде всего, дискурс знамения.
Теперь о греческом дискурсе. Его субъективной фигурой выступает мудрец. Тогда мудрость есть присвоение установленного мирового порядка, соотнесение логоса с бытием. Греческий дискурс космичен, он располагает субъекта в некой разумной природной тотальности. Греческий дискурс — это по существу дискурс тотальности, поскольку он опирается на sophia (мудрость как внутреннее состояние), дискурс умопостижения sophia; (природы как упорядоченного и завершенного развертывания бытия).
Иудейский дискурс — дискурс исключительности, ибо пророческое знамение, чудо, избранность означают трансцендентность как нечто потустороннее природной тотальности. Сам иудейский народ является одновременно и знамением, и чудом, и избранником. Он в полном смысле слова исключителен. Греческий дискурс выводится из космического порядка, чтобы приладиться к нему, тогда как дискурс иудейский проистекает из исключительности в этом порядке, чтобы стать знамением божественной трансцендентности.
Глубокая идея Павла заключалась в том, что иудейский и греческий дискурсы суть два лика одной и той же фигуры господства. Ибо чудесная исключительность знамения есть лишь «минус», точка выпадения, на которой держится космическая тотальность. В глазах еврея Павла, слабость иудейского дискурса состоит в том, что его логика исключительности знамения значима лишь для греческой космической тотальности. Иудей есть исключение грека. Из этого следует, во-первых, что ни один из двух дискурсов не может быть универсальным, поскольку каждый предполагает наличие другого. А во-вторых, оба дискурса вместе дают основания предполагать, что ключ к спасению дан нам во вселенной — либо путем прямого господства над тотальностью (греческая мудрость), либо благодаря господству традиции буквы и путем дешифровки знамений (ритуализм и профетизм иудеев). Видится ли космическая тотальность как таковая или она расшифровывается через исключительность знамения, в обоих случаях, по Павлу, мы имеем дело с теорией спасения, предполагающей господство (закона), причем обладающее тем тяжким пороком, что и в случае господства мудреца и в случае господства пророка — неизбежно не осознающих своей идентичности — человечество раскалывается надвое (Иудей и Еллин), что блокирует универсальность Вести. Замысел Павла состоял в том, чтобы показать, что универсальная логика спасения не может довольствоваться никаким законом: ни тем, который связывает мысль с космосом, ни тем, который регулирует следствия избранности. Невозможно, чтобы точкой отсчета было Все, но также невозможно, чтобы ею было исключение из Всего. Ни тотальность, ни знамение не подходят для этого. Исходить нужно из события как такового, акосмичного и незаконного, не входящего ни в какую тотальность и не являющегося знамением чего бы то ни было. Причем такая логика не отменяет любого закона, любой формы господства — ни господства мудреца, ни господства пророка.
Можно даже сказать, что оба дискурса, греческий и иудейский суть дискурсы Отца. Именно поэтому они скрепляют сообщества в формы подчинения (Космосу, Империи, Богу или Закону). Возможность стать универсальным, свободным от всякого партикуляризма есть только у того, кто представит себя как дискурс Сына
Эта фигура сына явно волновала Фрейда, она же была основой отождествления себя с апостолом у Пазолини. Для первого, с точки зрения иудейского монотеизма — с Моисеем в качестве децентрированной фигуры основателя (Египтянин как изначальный Другой), — христианство ставит вопрос об отношении сына к Закону, а на заднем плане вырисовывается символическое убийство отца. Для второго — внутренне присущая гомосексуальному желанию мысль ориентируется на пришествие эгалитаризированного человечества, в котором договор сыновей аннулирует подавляющую и воплощенную в институтах (церковь, коммунистическая партия) символику отца во имя материнской любви. Павел Пазолини словно разрывается между святостью сына (по законам мира обреченной на унижение и смерть) и идеалом могущества отца, который побуждает его создавать аппарат принуждения для господства над Историей.
Для Павла появление инстанции сына сущностно связано с верой в абсолютную новизну «христианского дискурса». Формула, согласно которой Бог послал нам своего сына, означает, прежде всего, вмешательство в Историю, из-за которого она перестает управляться трансцендентным по законам времени, и, как сказал Ницше, «разламывается надвое». Послание (рождение) сына знаменует этот перелом. Точкой отсчета является сын, а не отец, и это предписывает нам не вверяться никакому дискурсу, претендующему на форму господства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: