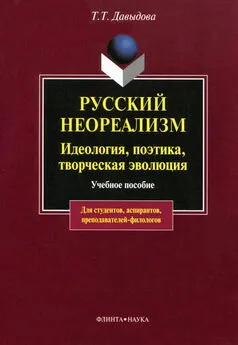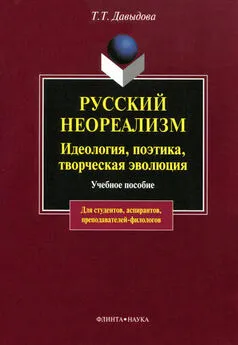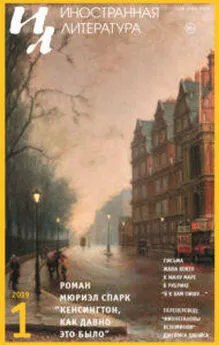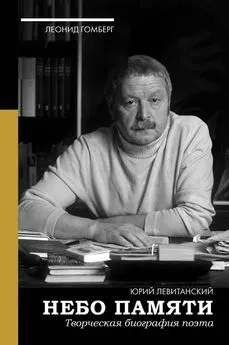А Бергсон - Творческая эволюция
- Название:Творческая эволюция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Бергсон - Творческая эволюция краткое содержание
Бергсон Анри. Творческая эволюция
Творческая эволюция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассмотрим пример, на который всегда указывали защитники целесообразности: устройство человеческого глаза. Им нетрудно было показать, что в этом столь сложном аппарате все элементы чудесным образом скоординированы. Для того, чтобы видеть, говорит автор известной книги о "Конечных причинах", нужно, "чтобы склера глаза в одной точке своей поверхности стала прозрачной и пропустила бы световые лучи…, нужно, чтобы роговая оболочка в точности соответствовала отверстию в глазной орбите…, нужно, чтобы на краю глазной камеры находилась сетчатая оболочка…, нужно, чтобы перпендикулярно к сетчатой оболочке расположилось бесчисленное множество прозрачных конусов, которые пропускают к нервной оболочке только свет, идущий по направлению их оси2 и т. д., и т. д.". В ответ на это защитник конечных причин был приглашен встать на точку зрения эволюционной гипотезы. Все, действительно, кажется чудесным в таком глазу, как наш, где тысячи элементов подчиняются единству физиологической функции. Но нужно взять функцию в ее истоках, у инфузории, где она сводится к простой восприимчивости (почти что химической) пигментного пятна к свету. Эта функция — вначале только случайный факт — должна была, прямо ли, с помощью неизвестного механизма, или косвенно, давая преимущества живому существу и поощряя, таким образом, естественный отбор, привести к незначительному усложнению органа, которое повлекло за собой усовершенствование функциональной деятельности. Таким образом, постепенное формирование столь хорошо скомбинированного глаза, как наш, можно объяснить бесконечным рядом взаимодействий между функцией и органом, без привлечения какой-нибудь сверхмеханической причины.
Действительно, если ставить вопрос о функции и органе, как это делала концепция целесообразности и как делает сам механицизм, то его трудно разрешить. Ибо орган и функция — понятия разнородные и настолько обусловливающие друг друга, что невозможно сказать a priori, с какого из них лучше начать при изложении их взаимоотношений: с первого ли, как хочет механицизм, или со второго, как требует теория целесообразности. Но мы полагаем, что спор может принять совсем другой оборот, если сравнить между собою сначала два объекта одной и той же природы, — орган с органом, а не орган с функцией. Так можно было бы постепенно приближаться ко все более и более правдоподобному решению. И тем больше будет шансов дойти до конца, чем смелее мы примем эволюционную гипотезу.
Вот, рядом с глазом позвоночного, глаз такого моллюска, как морской гребешок. В обоих есть одни и те же основные части, состоящие из аналогичных элементов. Глаз морского гребешка, как и наш глаз, имеет сетчатую оболочку, роговую оболочку, хрусталик с ячеистой структурой. В нем можно заметить даже то специфическое смещение элементов сетчатки, которое вообще не встречается у беспозвоночных. Конечно, можно спорить о происхождении моллюсков, но какого бы взгляда ни придерживаться, все же никто не будет оспаривать, что моллюски и позвоночные отделились от их общего ствола задолго до появления столь сложного глаза, как глаз морского гребешка. Откуда же тогда эта аналогия в строении?
Зададим этот вопрос поочередно двум противоположным друг другу системам объяснения, стоящим на эволюционной точке зрения: как решают его гипотеза чисто случайных изменений и гипотеза изменений, определенным образом ориентированных под влиянием внешних условий?
Что касается первой, то известно, что в настоящее время она представлена двумя весьма различными формами. Дарвин говорил об очень незначительных изменениях, которые накапливаются путем естественного отбора. Он знал о фактах внезапных вариаций, но этот «спорт», как он выражался, мог давать, по его мнению, только уродства, не способные продолжаться; происхождение же видов он объяснял только накоплением незначительных изменений'. Такой точки зрения придерживаются еще многие натуралисты. Но она готова уступить место противоположной идее, согласно которой новый вид возникает сразу, в результате одновременного появления многих новых признаков, отличных от прежних. Эта гипотеза, выдвинутая разными авторами, в частности Бэтсоном в его замечательной книге', приобрела глубокий смысл и стала очень влиятельной со времени знаменитых опытов Хуго де Фриза. Этот ботаник, произведя опыты над OEnothera Lamarckiana, получил через несколько поколений определенное число новых видов. Теория, выведенная им из этих опытов, представляет чрезвычайный интерес. В развитии видов, по де Фризу, чередуются периоды устойчивости и изменчивости. Когда наступает период «изменчивости», виды создают на множестве различных направлений совершенно неожиданные формы. Мы не рискуем принять сторону ни этой теории, ни теории незначительных изменений. Возможно, что обе они содержат в себе долю истины. Мы хотим только показать, что те изменения, о которых идет речь неважно, велики они или малы, — будучи случайными, не могут объяснить описанного выше сходства в структуре.
Возьмем вначале дарвиновскую теорию незначительных изменений. Допустим, что существуют небольшие различия, которые вызваны случайностью и постоянно накапливаются. Не нужно забывать, что все части организма по необходимости скоординированы друг с другом. Неважно, является ли функция следствием или причиной органа: неоспоримо одно — то, что орган лишь тогда может помочь отбору или вызвать его, когда он функционирует. Если тонкая структура сетчатки развивается и усложняется, то этот прогресс не будет благоприятствовать зрению, а, без сомнения, расстроит его, если в то же время не развиваются и зрительные центры, и различные части самого зрительного органа. Если изменения случайны, то слишком очевидно, что они не могут условиться друг с другом о том, чтобы произойти одновременно во всех частях органа и дать ему возможность и дальше выполнять свою функцию. Дарвин прекрасно это понимал, что и было одним из оснований его гипотезы о незначительных изменениях. Отличие, которое случайно появится в одной точке зрительного аппарата, не помешает функционированию органа; и с той поры это первое случайное изменение может как бы ожидать, что к нему присоединятся дополнительные изменения и поднимут зрение на одну ступень по пути совершенствования. Пусть будет так; но если незначительное изменение не мешает функционированию глаза, оно также и не станет полезным ему до тех пор, пока не произойдут дополнительные изменения: как может оно тогда сохраниться путем отбора? Поневоле рассуждают так, как если бы незначительное изменение было пробным камнем, заложенным организмом и сохраняющимся для дальнейшей постройки. И, кажется, трудно избежать этой гипотезы, столь мало согласующейся с принципами дарвинизма, даже при анализе органа, развившегося на одной великой эволюционной линии, как, например, глаз позвоночного. Когда же замечаешь сходство в строении глаза позвоночного и моллюска, то она приобретает безусловную необходимость. И в самом деле, как можно предположить, чтобы бесчисленное множество незначительных изменений происходило в одном и том же порядке на двух самостоятельных эволюционных линиях, если они были совершенно случайны? И как могли они сохраняться путем отбора и накапливаться с той и другой стороны — одинаковые, в одном и том же порядке, — если каждое из этих изменений по отдельности не несет никакой пользы?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: