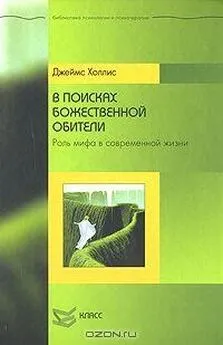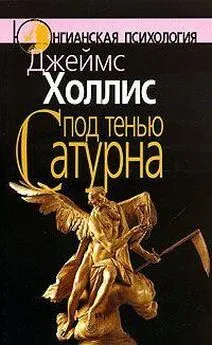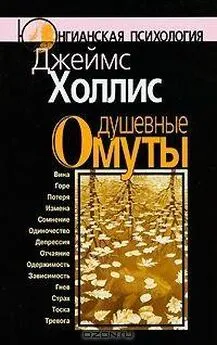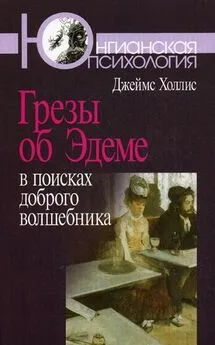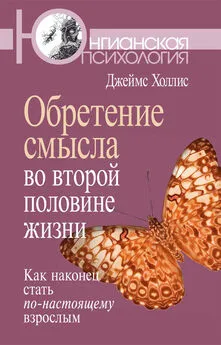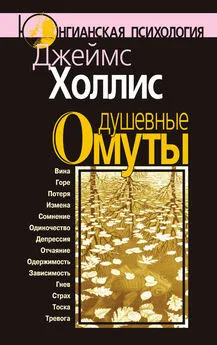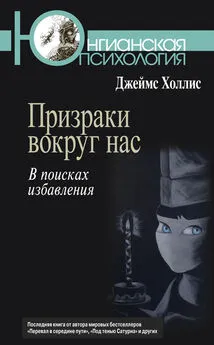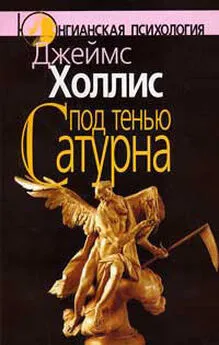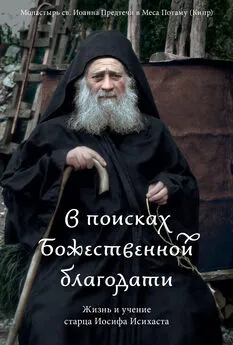Джеймс Холлис - В поисках божественной обители: Роль мифа в севременной жизни
- Название:В поисках божественной обители: Роль мифа в севременной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Независимая фирма Класс
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86375-150-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джеймс Холлис - В поисках божественной обители: Роль мифа в севременной жизни краткое содержание
James Hollis. Tracking in the Gods: The Plase of Myth in Modern Life
Джеймс Холлис.
В поисках божественной обители: Роль мифа в современной жизни / Перев. с англ. В. Мершавки. – М.: Независимая фирма «Класс», 2008. – 192 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).
«Умерли все боги», – когда-то провозгласил мудрец Заратустра. Это шокирующее заявление означало крушение мифов, которые много столетий помогали людям ощущать свою связь с природой, космосом, другими людьми и самими собой.
В чем современному человеку искать опору в нашем мире, лишенном «божественной энергии»? Как преодолеть кризис в осмыслении жизни? Об этом рассуждает в своей книге известный юнгианский аналитик Джеймс Холлис. Кризис, говорит он, это не только крах привычных представлений, но и множество новых возможностей, открывающихся перед человеком. И каждый из нас, как мифологический герой, должен совершить индивидуальное «странствие», преодолевая страхи и преграды, – чтобы создать свою мифологию и собственную систему ценностей. Ту, что станет самой надежной опорой в жизни.
Готовы ли вы принять этот вызов? Возможно, книга доктора Холлиса поможет обозначить вехи именно на вашем пути.
В поисках божественной обители: Роль мифа в севременной жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Имя индуистской богини Кали означает «время мрака», ее шея украшена ожерельем из черепов. Она также является воплощением двойственности. Поэтому когда богиня приносит в жертву тех, кого породила, она произносит: hoc est corpus теит («Вот мое тело – ешьте его, вот моя кровь – пейте ее!»).
Наверное, нельзя представить себе ничего ужаснее, чем принесение в жертву собственных детей. Мы можем признать, что античные культуры иногда допускали жертвоприношение детей в виде «магии взаимной благожелательности», предполагающей следующее отношение к богам: «Мы отдаем вам нашего первенца, самое лучшее, что у нас есть, чтобы вы в свою очередь даровали нам вашу щедрость и плодородие». Обратим внимание на момент в эволюции человеческого сознания, когда Авраам, разрывая свое сердце и душу, предложил в жертву Яхве своего сына Исаака. Яхве остановил занесенную руку, но запомнился сам факт: для того чтобы что-то получить, нам приходится что-то отдать. А потому в эпоху материализма и потребления нас постоянно преследует пророчество Иисуса: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» [Евангелие от Луки 17:33].
Поэтому драма цикла жертвоприношения богам – кого за что (quid pro quo) – периодически отражает историю. Со страниц древнего северного эпоса «Старшая Эдда» доносится плач Одина:
Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых [90] Цит. по: Joseph Campbell, The Mythic Image, p. 419 (перевод А. Корсуна).
.
[Один повесился, пронзив самого себя копьем, на мировом древе Иггдрасиль, чтобы обрести знание рун (т. е. тайные знания). Миф об этом сопоставляют с шаманскими обрядами. Добровольное ритуальное мученичество имеет целью вызвать у себя экстатическое состояние. – Прим. ред.]
Мы ничем не можем помочь, разве что увидеть параллели с сакральным танцем смерти на Голгофе. «Дерево под порывами ветра» – это крест плотника из Назарета. «Девять ночей» – это трижды три, символическое число трансформации, нашедшее свое отражение в трех днях жертвоприношения Божественного Агнца. Торчащее из бока копье – эта рана, нанесенная обществом, от которой страдают все сыновья всех матерей. В возвращении Одина к самому себе мы слышим первые строки Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [91] Евангелие от Луки 1:1.
. Иггдрасиль – это мировое древо, гигантская центральная мировая ось. Когда евреи в день праздника Пейсах говорят «На следующий год в Иерусалиме», они тем самым подтверждают наличие мифической мировой оси, проходящей через наше сердце и душу. Иудейский пророк Иисус заявил, что Царство Небесное находится внутри нас; его апостол Павел сказал: «Не Христос, но Христос во мне» [92] Цит. по: Joseph Campbell, The Business of the Gods, p. 135.
. Черный Лось, шаман индейского племени сиу, считал, что самая высокая вершина, Харни Пик, находится в Южной Дакоте, и не только в ней, а везде [93] Там же, стр. 30.
.
Неумолимое требование богов возвращает нас в прошлое, к жертвоприношению, к непременному выполнению условия «зуб за зуб». Один олицетворяет образ спасителя, страдающего во имя искупления чужой вины. На священном дереве он приносит в жертву глаз и в ответ получает руны, алфавит Северной Европы. В древнегреческом мифе Прометей, чье имя предполагает знание будущего, крадет огонь, искру творчества, создавая возможность для появления культуры и развития деятельности homo faber. За это он был прикован к скале в горах Кавказа, а орел должен был постоянно терзать его тело и клевать печень. Похожие раны были у Одина и Иисуса. Итак, для того чтобы что-то получить, чем-то нужно пожертвовать. Один принес в жертву свой глаз (а Эдип – свое зрение), чтобы мы могли выйти из ограничений тьмы, получив инсайт.
В 1777 году капитан Кук записал в своем журнале, что на райском острове Таити он увидел глаз, вынутый у живого участника ритуала и поднесенный вождю племени, чтобы тот его съел. «Вот мое тело, ешь его!» [94] Campbell, The Mythic Image, p. 430f.
В египетской «Книге мертвых» читаем: «Возьми глаз Гора и познай вкус его» [95] Там же, стр. 450.
. Поэтому создается впечатление, что боги предписывали избранным какое-то символическое жертвоприношение, которое было настолько важным, что остальные могли этой жертвой насытиться и достичь определенной степени трансформации. Видеть глаз Одина или глаз Гора, который покоится на вершине пирамиды, изображенной на американской банкноте, – значит осознать, насколько мы готовы принизить торговлю, желая приобрести божественный инсайт.
* * *
Архетип вечного возвращения периодически дает о себе знать, причем не только при погружении вглубь исторических лабиринтов, но и в снах наших современников. Для юнгианского аналитика моего возраста некоторые сны остаются незабываемыми. Женщина, которой исполнился пятьдесят один год, в глубине души была очень религиозна, но при этом не принадлежала ни одной конфессии. В Страстную неделю и на Пасху ей приснился следующий сон: она пришла к священнику, чтобы спросить, что означает Пасха. Священник рассказал ей теоретическую концепцию и догмат, и тогда сновидица ответила: «Я поняла только, что смысл Пасхи заключается в том, как если бы я несла прямо на крест младенца Христа, рожденного из моего чрева».
Это самый замечательный сон. Женщина ощущала потребность, которая, как правило, появляется во второй половине жизни, – потребность переосмыслить себя, поместить себя в контекст более масштабного странствия. Если цель первой половины жизни заключается в концентрации энергии, достаточной для того, чтобы покинуть дом и остаться наедине с окружающим миром, то цель второй половины жизни состоит в достижении согласия Эго с великими космическими энергиями. Тогда Эго вступает в диалог не только с обществом, но и с Самостью, и с богами.
Во сне женщина слушает схоластическое рассуждение священника, однако оно не находит отклика в ее душе. Это догмат, который не ощущается как переживание. А потому она совершенно спонтанно говорит, что осознание приходит только из личных переживаний. Она должна нести младенца сама, а это значит, что он должен быть рожден изнутри. К тому же новорожденный должен быть сразу же распят на кресте, что является несколько странным анахронизмом. Создается впечатление, что ее ребенок должен быть рожден, чтобы быть принесенным в жертву. «В моих истоках мой конец», – сказал Т.С. Элиот [96] «East Сокег», line 1, in Complete Poems and Plays of T.S. Eliot, p. 123.
.
Архетип умирающего бога – это внутреннее противоречие, оксюморон. Как может бог умереть? Бог умирает, когда воплощаемый им закон забывается или сменяется другим. Бог умирает, когда воплощаемый им динамический принцип утратил свою энергию. Бог умирает, когда эта энергия разрушает формирующий ее сосуд концепции или образа и уходит в подполье или же принимает новую форму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: