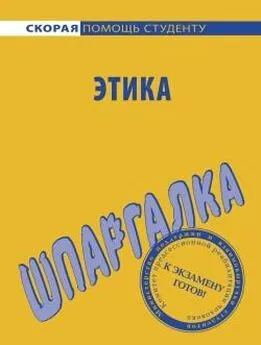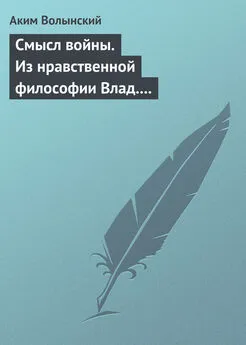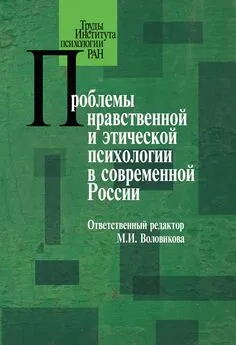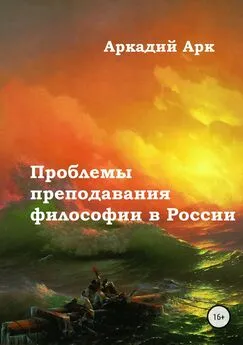Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
- Название:Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. краткое содержание
Книга доктора философских наук Ю. Н. Давыдова посвящена проблемам нравственной философии: страх смерти и смысл жизни, этический идеал и нигилизм, преступление и раскаяние и т. д. В книге рассматривается традиция этической мысли, восходящая к литературному творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского. Нравственная философия русских писателей противопоставляется аморализму Ницше и современных ницшеанцев, включая таких философов, как Сартр и Камю.
Книга рассчитана на молодого читателя.
Рецензенты: академик М. Б. Митин; доктор философских наук, профессор В. А. Карпушин; доктор философских наук, профессор И. К. Пантин.
© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.
М.: Мол. гвардия, 1982. — 287 с, ил. В пер.: 75 к., 50 000 экз.
Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аргументация ведь довольно впечатляющая, во всяком случае, способная привести в смущение человека, не искушенного в психологических тонкостях теоретической полемики. А если придать ей «левый поворот», не совсем еще утративший на Западе деспотического авторитета моды, да намекнуть к тому же на космические ужасы «буржуазной цивилизации как таковой», то она уже и внушительна, по крайней мере, авторитетна. Тем более что с помощью удачно найденного «левого поворота» этой аргументации не так уж трудно представить в качестве «до конца последовательного» антикапиталиста и антибуржуазника не только отрешенного от жизни мыслителя, одержимого метафизическим ужасом смерти как своей больной, навязчивой идеей, но и первого попавшегося из самозваных уличных жрецов этого безрелигиозного массового культа — культа страха, столь же безысходного, сколь и панического. Ведь как один, так и другой разоблачают окаянный капитализм, выволакивая наружу его («пре») исподнее и делая предметом всеобщего обозрения первобытный страх, лежащий якобы в самой глубокой основе буржуазного индивидуализма (носителем которого оказывается уже «хитроумный Одиссей») и всего «капиталистического бытия». Причем второй делает, пожалуй, даже большее, чем первый, заставляя капитализм глядеться в зеркало своего собственного космического ужаса и щедрой рукой бросая в толпу потрясенных «функционеров позднекапиталистического общества» всю правду об их тайных (и — обязательно — «постыдных») страхах, в которых они боятся признаться даже самим себе.
Но вот незадача, бросающая первую тень сомнения на приведенную аргументацию, взятую в ее популярном «левом повороте». При рассмотренном образе действия с роковой неизбежностью достигается результат, диаметрально противоположный искомому, или, точнее, официально прокламируемому В итоге «революционно»-разоблачительской активности данного типа общая эскалация страха в духовной атмосфере современного Запада ничуть не снижается, наоборот — резко возрастает. Страх, парализующий животворные истоки западной культуры и шаг за шагом толкающий ее по пути перерождения в свою собственную противоположность, в нечто поразительно близкое устрашающей культуре Карфагена (с центрирующим, внутренне организующим ее культом человеческих жертвоприношений и органически связанным с ним, являющимся его конечной целью нагнетанием атмосферы ужаса), — этот страх постоянно приобщает к своему «активу» и все филиппики, направленные против него, коль скоро обнаруживается, что за деле они только способствуют его дальнейшему укоренению и распространению, и, стало быть, их истинный пафос интимно связан с ним.
Впрочем, приведенная аргументация обнаруживает свои слабые пункты и в иных своих версиях, далеких от наигранной «левизны». Надо сказать, что вообще эта аргументация звучала бы не только «впечатляюще», но и убедительно, если бы не совпадала по своему содержанию, не оказывалась тождественной с аргументами тех, кто просто-напросто делает деньги с помощью индустриального производства и массового распространения фобий, или тех, кто идеологически обслуживает этот аппарат, поставляя «систему аргументации», необходимую для рекламирования его товара. Уже одно это обстоятельство лишает рассматриваемую аргументацию большой доли убедительности, провоцируя вопрос о том, как же провести разграничительную черту между «фундаментальным исследованием», делающим вывод в пользу всемогущего Страха — этого последнего абсолюта, оставшегося у людей после «гибели богов», которую возвестил уже Рихард Вагнер, с одной стороны, и визгливо пошлой однодневкой очередного «поп»-кумира, погружающего своих недалеких читателей и почитателей в атмосферу кошмарной монструозности на том основании, что абсолютный Ужас — это единственно истинная реальность человеческого существования, с другой стороны.
Но главное, что затрагивает самый нерв аргументации нынешних вольных или невольных, просвещенных или непросвещенных защитников идеологии страха, — это любая попытка внимательно и непредвзято приглядеться к их козырной карте — апелляции к «самой жизни». Что такое эта самая «живая жизнь», исполненная всевозможных кошмаров и ужасов? Не сплетается ли она из великого множества человеческих поступков, то есть действий, совершаемых существами, обладающими, как правило, здравым умом и трезвой памятью? Так вот, если выбрать из этого океана поступков и проступков пусть даже самые устрашающие, превосходящие своей гнусностью меру человеческого воображения (им-то как раз бульварная пресса и склонна придавать чуть ли не мистическое значение, именуя «преступлениями века»), но все-таки вполне конкретные, эмпирически фиксируемые, то обнаруживается, что измерение, где они совершаются, расположено совсем не «по ту сторону» всякой культуры и философии и даже не «по ту сторону» добра и зла.
В конце концов, оказывается, что даже так называемые немотивированные убийства, характеризующиеся, казалось бы, одной сплошной спонтанностью, импульсивностью и стихийностью, не говоря уже о преступлениях преднамеренных или «запрограммированных» самим способом преступного поведения, вовсе не отделены непроходимой стеной от самосознания преступника, его рефлексии по поводу своей «экзистенциальной ситуации»; в особенности если взять акт преступления на фоне поведения его будущего «исполнителя», в связи с установками этого последнего на его «отношение к другому» (другим). Как ни парадоксально, здесь не исключена даже и «моральная» рефлексия. Правда, это рефлексия совершенно особого рода, но не так уж редко в ней прослушиваются и мотивы, напоминающие хитросплетения обесчестившей себя мысли Родиона Раскольникова или нагло откровенные софизмы Петра Верховенского. Гениальный русский писатель был прав. Всякое преступление, сколь бы гнусным и бессовестным оно ни было, все-таки нуждается в известном самооправдании, в том, чтобы в чьих-то глазах — пусть это будут, на худой конец, глаза самого же преступника, — оно выглядело не как подлость и пакость, а как «жестокая необходимость», «отчаянная храбрость» или осуществление «высшего права». Факт, свидетельствующий о неотчуждаемости моральной рефлексии от человеческого сознания, даже если это нагло лгущее самому себе сознание закоренелого преступника: и здесь порок платит свою дань добродетели, совершая для этого своеобразную операцию «переоценки всех ценностей», а точнее — переименования всех имен.
Со своей стороны, социология и психология преступности также достаточно убедительно свидетельствуют о том, что любой бандит и убийца — это человек, отнюдь не пребывающий «вне» или «по ту сторону» морали вообще. Он также ищет или создает свою «мораль», а обретя ее, цепко за нее держится. Разумеется, это совершенно специфическая мораль: мораль преступного мира, преступной группы или, если преступник предпочитает жить и действовать в одиночку, сконструированная им самим для «внутреннего употребления» мораль «исключения». У этой морали есть свои постулаты, свои представления о добре и зле и свои способы их обоснования, вовсе не лишенные метафизического аспекта, сколь бы варварское выражение он ни получал на уровне «вербализации». Причем основная особенность «метафизики», лежащей в основе преступной морали, заключается в том, что она с параноидальной настойчивостью решает одну-единственную задачу: представить весь мир так, чтобы па его фоне преступление уже как бы и не выглядело преступлением, а преступник — преступником. Тем самым в сознании преступника создается некий механизм, почти автоматически осуществляющий упомянутое нами переименование имен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: