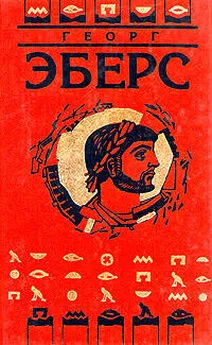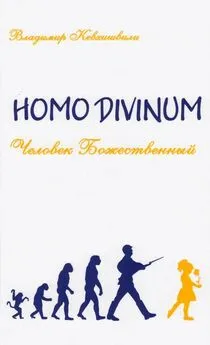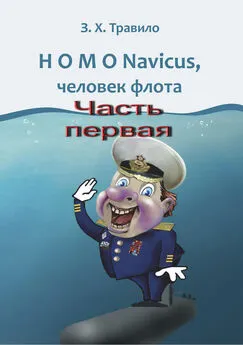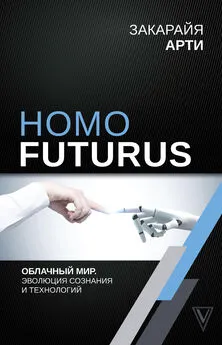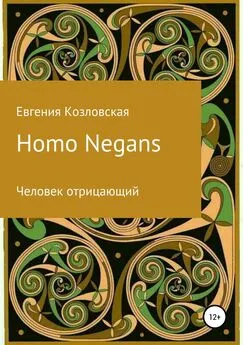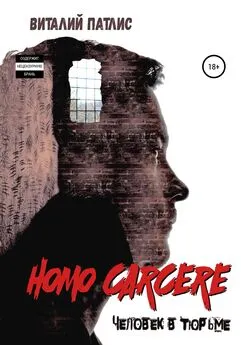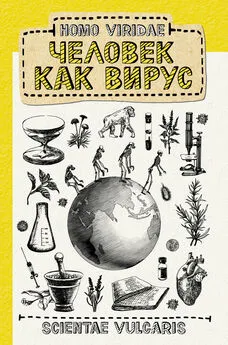Софья Агранович - Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания
- Название:Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом БАХРАХ-М
- Год:2005
- Город:Самара
- ISBN:5-94648-032-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Софья Агранович - Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания краткое содержание
Эта книга названа "Homo amphibolos" — человек двусмысленный. Исследуя генетическую природу психологических феноменов человеческого сознания и кардинальных категорий культуры, авторы выстраивают принципиально новую гипотезу, объясняющую происхождение человека и архаические истоки его сознания.
Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сейчас практически невозможно однозначно сказать, что было первично: использование "умнеющими" обезьянами остроты и твердости камня для рубки и резания или его "очеловечивание", введение его из области тактильных ощущений и зрительных впечатлений в сферу чувств и переживаний. Вероятнее всего, это были синергичные процессы. Этимология славянского концепта "лютость" непосредственно соотносится с древнейшими мифами творения, которые несут в себе одновременно две идеи — разрушения и созидания. Мифологическая космогония начинается с разрушения хаоса, который может быть представлен как тело первозверя (часто это бывает змей) или антропоморфного первосущества. Вторым этапом космогонии становится созидание космоса из частей, обломков, членов разъятого мирового тела. Мифологическую космогонию славян интересно и убедительно реконструировали Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров. Это реконструкция мифа о поединке Перуна и Волоха (Волоса, Велеса) — богов, о которых с уверенностью можно сказать, что они являются праславянскими ипостасями представителей индоевропейского пантеона Воруна и Индра. Противостояние Волоха и Перуна отражает оппозицию хаоса и космоса, мрака и света, земли и неба, лютого зверя (змея, медведя, волка и т. д.) и небесного громовержца, причем Велес явно выполняет функцию тотемного зверя-оборотня. Недаром Велес у славян генетически восходил к медвежьему тотему, имел облик медведя и сначала выполнял функцию божества охоты и только затем — божества скотоводства и богатства.
Следы Велесова культа легко обнаруживаются в славянском фольклоре, даже непосредственно в русском. Это и многочисленные сказки, где медведь выступает как тотемный зверь, и ряженье медведем с сопутствующими ему полуритуальными игровыми текстами и действиями. Следы этого культа сохранились и в игрищах с ручным медведем, где его жестово-речевой диалог с поводырем выделял и ритуально-смеховой аспект отношений человеческого коллектива к своему универсальному оплодотворителю и подателю пищи, и древний тотемный статус именно этого зверя.
Ритуальное почитание медведя долго сохранялось даже в быту. Например, еще в конце XIX — начале XX века охотники, убившие медведя, могли довольно выгодно продать кисть его лапы, явно не имевшую никакой хозяйственной ценности. Она высушивалась и прикреплялась над скотным двором, называлась "скотий бог" и должна была способствовать размножению скота и умножению богатства хозяев. По всей вероятности, идиоматическое выражение "иметь мохнатую лапу", что означает "обладать сильным покровителем в верхах общества", возникло из почитания этого древнего мифологического символа. До сих пор существует если не гадание, то воспоминание о гадании, в котором мужчина с кистями рук, покрытыми волосами, осмысливается будущими невестами как потенциальный хороший кормилец, богатый жених, удачливый добытчик.
Среди русских народных сказок сохранились тексты, где отец отправляет свою дочь в лесную избушку, в которую ночью является медведь. Медведь играет с героиней в жмурки, то есть в смерть. Героиня, которой оказывает помощь мышь-медиатор, выигрывает, ей удается выжить, таким образом, она проходит инициацию, и медведь провожает ее во взрослую жизнь, даря сундук с богатым приданым. Конечно, в пересказе этой народной сказки мы допустили некоторую вольность, обнаружив под текстом произведения народного искусства (сказки) признаки древнего мифа, из которого сказка возникла как раз в результате утраты ритуально-мифологических признаков. Конечно же, в сказке девушка попадает в страшную избушку уже не для инициации, а по воле злой и жадной мачехи, а медведь одаривает ее за трудолюбие и доброту. Но следы древнего почитания медведя как тотема, как универсального оплодотворителя и подателя пищи остались даже в сказке.
Любопытно, что еще в конце XIX века во время народных гуляний медвежьи поводыри, наследники древних скоморохов, происхождение которых многими учеными возводится к славянским шаманам-волхвам, после представления с ручным медведем устраивали сеанс лечения, явно восходивший к пришедшим из глубокой древности представлениям и обрядам. Вожатый фиксировал ручного зверя, а люди, страдавшие болями в определенных частях тела, прикасались к голове, лапам, спине животного за определенную плату. Особенно любопытно выглядело лечение от бесплодия. Женщина плясала, а вожатый заставлял медведя двигаться в ритме, напоминающем танец, на безопасном от нее расстоянии. Таким образом, воспроизводилась ритуальная пляска, символизирующая собой сексуальный акт. Женщина буквально оплодотворялась тотемом.
В знаменитой сказке "Медведь на липовой ноге" зафиксировано древнейшее табу на поедание кисти медвежьей лапы: зверь приходит к деду и бабке, чтобы отомстить им не за свою смерть (убивать тотема разрешалось), а за попытку использовать в быту кисть его лапы. Медведь распевает страшную песню об обреченном человеке, нарушившем первобытное охотничье табу и в результате нарушения ритуала безвозвратно уничтожившем зверя: "А все села спят, и деревни спят. Только бабка не спит. Мое мясо варит. На моей коже сидит. Мою шерстку прядет".
В единственном месте на Земле — центральном ресторане г. Саранска — вы можете заказать фирменное блюдо, рецепт которого восходит к архаической кухне древней мордвы. Таким образом, вы безнаказанно нарушите древнейшее табу человечества. Сложная котлета из разных сортов мяса домашних животных имитирует своим внешним видом табуированную пищу — медвежью лапу. Не исключено, что это вкуснейшее блюдо мордовской национальной кухни возникло как кулинарный отзвук умирающего обряда. Так профанное победило сакральное. Но и в самой победе слышится отзвук страха и почтения.
Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров довольно убедительно реставрировали характерный для мировой мифологии сюжетный архетип мифа о Перуне и Волосе. В результате поединка Перун убивает Волоса (Велеса) молнией, однако смерть его, по всей вероятности, не может быть осмыслена как однозначно отрицательный акт. Смерть от молнии в народной традиции почитается знаком избранничества [14] Топоров В.Н. Предыстория и история литературы у славян. М.: РГГУ, 1998. С. 246.
. Тело убитого Волоса Перун расчленяет. Именно этим страшным кровавым актом, согласно реконструкции Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова, заканчивается поединок носителя хтонических черт — медведя, змея и т. д. Волоха — и небесного змееборца Перуна. Перун и Волох кажутся фигурами оппозиционными, однако за явной оппозиционностью просматривается глубокий изначальный синкретизм. Точно так же и понятия "жестокость" и "жалость", явно оппозиционные, оказываются исконно слиты в древнем славянском слове "лютость".
Интервал:
Закладка: