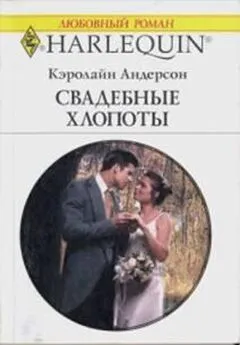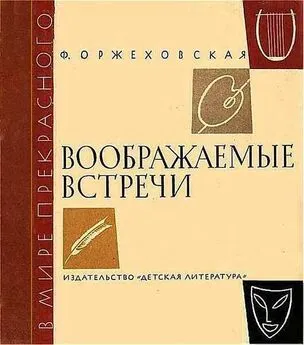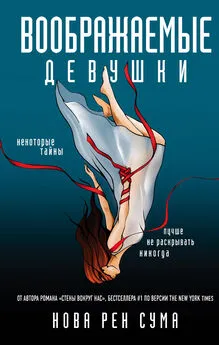Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества
- Название:Воображаемые сообщества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Канон-пресс-Ц : Кучково поле
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93354-017-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества краткое содержание
В очередную книгу большой серии «Публикации ЦФС» (малая серия «CONDITIO HUMANA») мы включили широко известное исследование Б. Андерсона, посвященное распространению национализма в современном мире. Своеобразие трактовки автором ключевых понятий «нации» и «национализма» заключается в глубоком социально-антропологическом подходе к их анализу. При этом автор учитывает социально-политический и исторический контекст формирования феномена национализма.
Книга предназначена для социологов, политологов, социальных психологов, философов и всех изучающих эти дисциплины.
Воображаемые сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя, по правде говоря, понятия inlander и native никогда не могли по-настоящему стать обобщенными расистскими понятиями, всегда предполагая укорененность в некоторой особой среде обитания [302], случай Индонезии не должен привести нас к выводу, что у каждой такой «исконной» среды обитания были предопределенные или непреложные границы. Два примера покажут нам прямо противоположное: Французская Западная Африка и Французский Индокитай.
В пик своей славы Ecole Normale William Ponty в Дакаре, несмотря на то, что была всего лишь обычной средней школой, стала вершиной колониальной образовательной пирамиды Французской Западной Африки [303]. В школу Вильяма Понти съезжались способные ученики из мест, которые мы знаем сегодня как Гвинею, Мали, Берег Слоновой Кости, Сенегал и т. д. А потому нас не должно удивлять, что паломничества этих мальчиков, завершающиеся в Дакаре, были с самого начала истолкованы во французско-[западно]-африканских категориях, незабываемым символом которых стало парадоксальное понятие négritude — квинтэссенция африканскости, выразимая лишь во французском языке, языке школьных классов Вильяма Понти. И все же вершинное положение школы Вильяма Понти было случайным и преходящим. По мере того как во Французской Западной Африке строилось все больше средних школ, у одаренных мальчиков отпадала необходимость в совершении такого дальнего паломничества. И уж во всяком случае, образовательная центральность школы Вильяма Понти никогда не сопровождалась сопоставимой административной центральностью Дакара. Взаимозаменяемость французско-западноафриканских мальчиков на ученических скамьях в школе Вильяма Понти не была подкреплена их последующей бюрократической заменимостью во французско-западноафриканской колониальной администрации. Поэтому выпускники школы возвращались домой, чтобы стать там со временем гвинейскими или малийскими националистическими лидерами, в то же время сохраняя «западноафриканское» товарищество и солидарность, которые оказывались потеряны для последующих поколений [304].
Почти таким же образом и курьезный гибрид «Индокитай» имел для одного поколения сравнительно высокообразованных юношей вполне реальное и переживаемое воображенное значение [305]. Напомним, что это образование было юридически провозглашено лишь в 1887 г., а свою окончательно сложившуюся территориальную форму обрело лишь в 1907 г., хотя активное французское вмешательство в этом регионе началось столетием раньше.
Вообще говоря, образовательная политика, проводимая колониальными правителями «Индокитая», преследовала две основные цели [306]; и обе они, как оказалось, внесли свой вклад в становление «индокитайского» сознания. Первой было разрушение существующих политико-культурных связей между колонизированными народами и соседним внеиндокитайским миром. В случае «Камбоджи» и «Лаоса» [307]мишенью был Сиам, который раньше в том или ином виде осуществлял над ними сюзеренитет и имел с ними общие ритуалы, институты и священный язык буддизма Хинаяны. (Вдобавок к тому, язык и письменность низовых лао были и остаются тесно связанными с языком и письменностью тайцев.) Руководствуясь именно этим интересом, французы впервые провели в этих областях, захваченных у Сиама последними, эксперимент с так называемыми «обновленными школами при пагодах», призванными перетянуть кхмерских монахов и их учеников из орбиты тайского влияния в орбиту Индокитая [308].
В Восточном Индокитае (как я сокращенно называю «Тонкин», «Аннам» и «Кохинхину») аналогичной мишенью были Китай и китайская цивилизация. Хотя династии, правившие в Ханое и Хюэ, вели многовековую борьбу за независимость от Пекина, правили они все-таки посредством мандарината, скопированного с китайского образца. Вербовка людей в государственную машинерию была поставлена в зависимость от письменных экзаменов на знание конфуцианской классики; династические документы составлялись с помощью китайских иероглифов; вся культура правящего класса была насквозь китаизирована. Эти прочные вековые связи начали приобретать еще более нежелательный характер примерно после 1895 г., когда через северную границу колонии стали проникать сочинения таких китайских реформаторов, как Кан Ювэй и Лян Цичао, и таких националистов, как Сунь Ятсен [309]. Соответственно, в 1915 г. в «Тонкине», а в 1918 г. в «Аннаме» были последовательно отменены конфуцианские экзамены. Отныне вербовка на гражданскую службу в Индокитае стала производиться исключительно через каналы развивающейся французской колониальной системы образования. Кроме того, отныне стало сознательно поощряться quôc ngû (куок-нгы), романизированное фонетическое письмо, изобретенное в XVII в. иезуитскими миссионерами [310]и уже в 60-е годы XIX в. принятое властями для использования в «Кохинхине». Оно призвано было разрушить связи с Китаем, а также, возможно, и с коренным прошлым, сделав недоступными для нового поколения колонизированных вьетнамцев династические хроники и древнюю литературу [311].
Второй целью образовательной политики было производство строго отмеренного числа индокитайцев, умеющих говорить и писать по-французски, которые выполняли бы роль политически надежной, благодарной и окультуренной коренной элиты, заполняя должностные вакансии в низших эшелонах колониальной бюрократии и крупных коммерческих предприятий [312].
Нам нет нужды вдаваться здесь в тонкости колониальной системы образования. Имея ввиду цели нашего исследования, ключевая особенность этой системы состояла в том, что она формировала единственную, пусть даже и неустойчивую, пирамиду, верхние этажи которой до середины 1930-х годов располагались исключительно на востоке. Например, единственные лицеи, финансируемые государством, находились вплоть до указанного времени в Ханое и Сайгоне; а единственный университет, работавший в Индокитае на протяжении всего довоенного колониального периода, располагался в Ханое, так сказать, «вниз по улице» от дворца генерал-губернатора [313]. В число покорителей этих вершин входили подданные этого французского владения, говорившие на всех основных местных языках: вьетнамском, китайском, кхмерском и лаосском (а также немало проживавших в колонии молодых французов). Для этих покорителей, прибывавших сюда, скажем, из Митхо, Баттамбанга, Вьентьяна и Виня, смыслом их встречи здесь должно было быть превращение в «индокитайцев», подобно тому, как многоязычное и многоэтническое студенчество Батавии и Бандунга должно было увидеть в себе «индонезийцев» [314]. Эта индокитайскость, хотя и была вполне реальна, тем не менее, была воображена небольшой группой, причем воображена ненадолго. Почему она оказалась такой недолговечной, в то время как индонезийскость сохранилась и пустила глубокие корни?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: