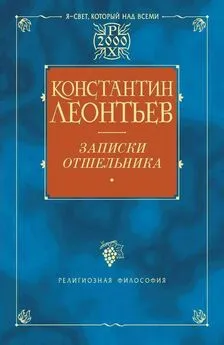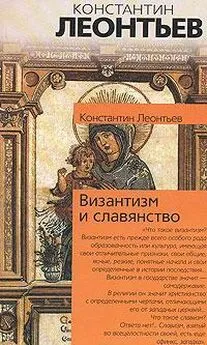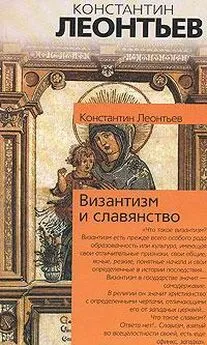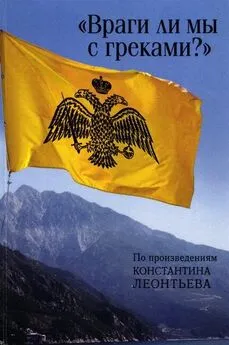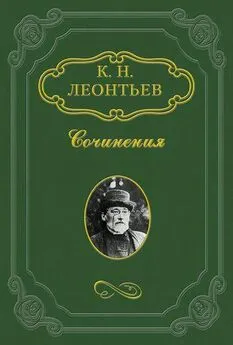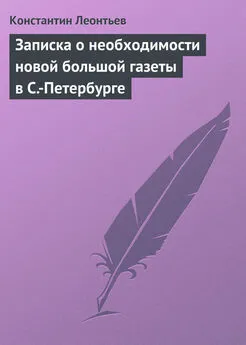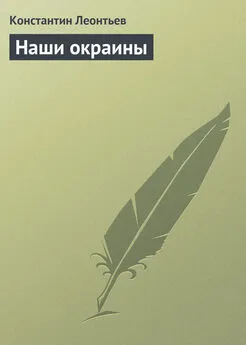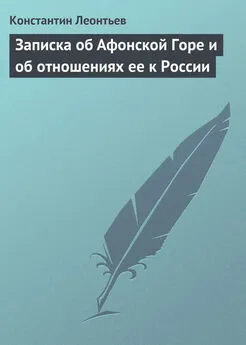Константин Леонтьев - Записки отшельника
- Название:Записки отшельника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2002
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Леонтьев - Записки отшельника краткое содержание
Перед вами — произведение, в наибольшей мере дающее представление о философской концепции Леонтьева — мыслителя, едва ли не первым провозгласившего понятие «особого места» России как страны, тяготеющей скорее к восточной, нежели к западной культуре, полагавшего либерализм и прогресс опасными и негативными и проповедовавшего «византизм», соборность, православие и возврат к допетровскому пути развития России.
Записки отшельника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Где же в нашей жизни теперь признаки, благоприятные для успеха у нас католической проповеди? Их вовсе нет. И я, который пишу отчасти тоже против г. Соловьева, еще один из самых благоприятных его идеям русских людей. Другие, по разным причинам (не всегда одинаково умным и хорошим), отступают чуть не в ужасе от его мыслей, даже и восхищаясь его талантом. Я же, хотя и не без оговорок обязательной православной богобоязненности, но считаю все-таки его проповедь не только гениальной по таланту, но и весьма полезной по общедуховному, ко внутренней дисциплине склоняющему, влиянию. Много ли в настоящее время русских, относящихся к трудам г. Соловьева так, как я отношусь, восхваляя общий дух и не смея сочувствовать его прямой цели? Много ли? Знаю еще двух-трех людей — не более… А число приверженцев Данилевского все растет и растет…
Я скажу даже, что я не счел бы себя вправе, если бы и мог, самолично и своевольно, без повеления иерархии нашей, слишком грубо противиться этим идеям о соединении церквей. Ибо, что не нужно, то откинется, а что хорошо, то останется от этой проповеди и от этих пророчеств.
Я сознаюсь только, что я не верю в возможность этого рода соединения , — в форме смиренного подчинения папству. Не верил бы даже и тогда, когда имел бы право находить это (ни у кого высшего не спросясь) безусловно правильным.
Не все правильное сбывается и не все желательное правдоподобно.
Гораздо более близким и вероятным, по всем признакам времени, мне кажется иное…
Вот что:
Внешние вещественно-исторические, так сказать, толчки были всегда необходимы для внутренних переворотов: душевных, умственных, духовных. Петру I, для легчайшего проведения европейских реформ, понадобился новый центр — Петербург. Св. Константин перед водворением христианства перенес столицу свою из Рима в Византию. Небольшое светское владение папы, давшее вначале римскому епископу большую вещественную свободу, позднее, длинным рядом умственных движений и психических туда и сюда толчков, привело к провозглашению догмата его духовной непогрешимости. Падение Византии и бегство из нее ученых греков, через одно только физически облегченное распространение древних книг, ускорило наступление времен Возрождения. Один ученый богослов в частном разговоре сообщил мне однажды вот что: «На Западе до крестовых походов почитание Божьей Матери было вовсе не так развито, как у греков; во время крестовых походов, под влиянием греков, враждебные им латиняне стали относиться к этой стороне веры иначе и вскоре после этого по присущей им страстности далеко превзошли восточных христиан в превознесении св. Девы Марии».
Не знаю, был ли этот ученый человек прав; я беру на себя ответственность не за самый факт, а только за вывод из него или за приложение. И это пример внешнего толчка, глубоко и неотразимо потом воздействовавшего на изменения сердечные, умственные и духовные.
Теперь чувствуется везде потребность обновленной дисциплины, и если только возможно — внутренней, из согласования убеждения с понуждением исходящей.
В России, сам г. Соловьев это признает, только начинают и растут религиозные, мистические «веяния»…
Если при этих психических, при этих умственных условиях в скором, исторически скором, а не личночеловечески, времени произойдут те перемещения политических сил, о которых я не раз говорил, на которые и Данилевский так надеялся: то многочисленным, но мягким, русским и малочисленным, но твердым, грекам придется из самосохранения неизбежно искать друг в друге точку опоры. Вражда греков к юго-славянам совпадает при этом с нашим (слава Богу!) в них современным разочарованием.
Вот внешний политический толчок! Вот новое поприще действий и чувств! И таких разнородных толчков в эту сторону будет много.
Русские славяне из кучи мелких, диких и несогласных княжеств создали сами новое великое и просвещенное царство.
Византийские греки, на основании евангельских и апостольских данных, хотя и Божественных, но {разумеется — промыслительно) еще общих и для подробного приложения неясных, создали гораздо раньше латинян новую, мировую, ясную и сложную ортодоксию.
Пусть эти русские столь государственные и эти греки, столь церковные в истории своей, пусть они тогда протянут искренно друг другу руку в небывалом еще доселе физически тесном общении!
Пусть случится это на том самом Босфоре, про который Наполеон I говорил: «c’est L’ Empire du monde!» [11] Это — империя мира (фр.).
и где, кажется, и Фурье хотел основать резиденцию своего Всеземного Омниарха, как главы градативно друг над другом возносящихся общин.
И тогда? Тогда отчего ж и не произойти все тому же соединению церквей?
Только иным обратным движением: духовной победой Востока над Западом.
— Мы перетянем к себе тогда католиков.
И такое соединение не будет уже, вероятно, иметь в себе вида ни знакомого и уже давно данного нам римского католичества, ни «старого», так сказать, русского православия, неподвижного и безвластного.
А будет это православие полуновое : догматически по-прежнему верное, на своем корню незыблемое, исторически же и канонически глубоко измененное и широко над всем разросшееся.
Припомним: все влияния Запада на Восток были эфемерны и поверхностны; все же воздействия Востока на Запад были прочны и хотя тоже не вечны, но оставили глубокие следы.
Не лучше ли нам пока поберечь с любовью это православие, хотя бы для личного спасения по-нашему и «западных» душ. Хотя бы и для того, чтобы лет через сто (положим) в случае неудачи самобытного развития церковных сил, нам было бы с чем (а не с пустыми руками безверия) и в Рим пойти.
Не будем мы тогда православными, так и не власти наши духовные и светские пойдут «в Каноссу»; а поедет туда скорее всего один из потомков Захария Стоянова или гг. Стасюлевича с Пыпиным, чтобы убить последнего преемника папы Льва XIII.
Желательно ли это?
VIII
Назвавши теорию Данилевского «ползучей» за то, что он крепко держится за современные основы русского общества, г. Соловьев начинает по частям уничтожать его надежды на будущее.
В напечатанной первой статье, сверх этого общего обвинения в «пресмыкании» по своей национальной «почве», есть четыре особых отдела: 1) об общине поземельной; 2) о русской науке; 3) о русской философии и 4) о русском искусстве.
Г. Соловьев ни на что из перечисленного не рассчитывает. Поземельная община не спасает земледельческий класс от пауперизма. Она существовала у многих других народов в первобытный период их истории и потому ничего особого славянского собою не представляет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: