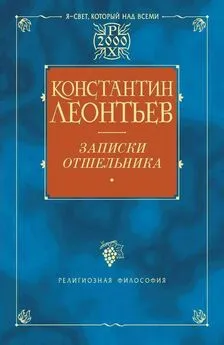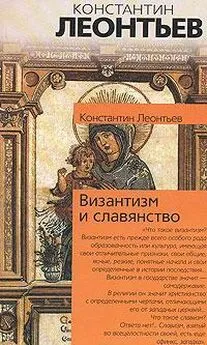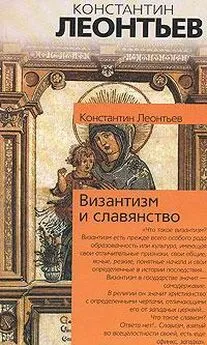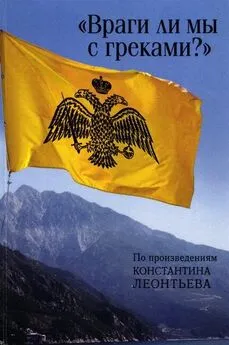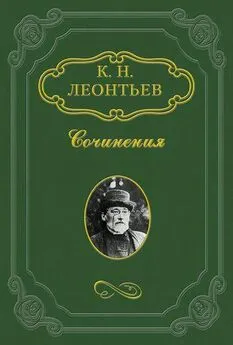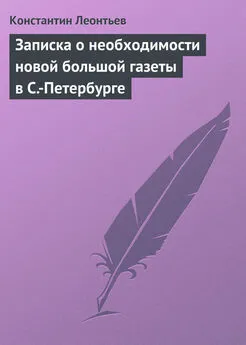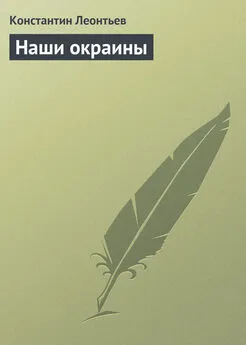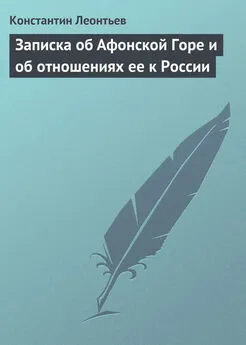Константин Леонтьев - Записки отшельника
- Название:Записки отшельника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2002
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Леонтьев - Записки отшельника краткое содержание
Перед вами — произведение, в наибольшей мере дающее представление о философской концепции Леонтьева — мыслителя, едва ли не первым провозгласившего понятие «особого места» России как страны, тяготеющей скорее к восточной, нежели к западной культуре, полагавшего либерализм и прогресс опасными и негативными и проповедовавшего «византизм», соборность, православие и возврат к допетровскому пути развития России.
Записки отшельника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но об этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказал о ней, почти в одно время с г. Достоевским, другой русский христианин, в речи менее прославленной, но в одном отношении более правильной, чем речь г. Достоевского.
Я говорю о К. П. Победоносцеве. Почти в то самое время, когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели, пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то «созрели», или, вернее, — перезрели до того, что нам остается только заклать себя на алтаре всечеловеческой (т. е. просто европейской) демократии, этот русский христианин, о котором я вспомнил, один, по должности своей, счастливо совпадающей с его чувствами и призванием, посетил далекую Ярославскую епархию, и там, на выпуске в училище для дочерей священно— и церковнослужителей, состоявшем под покровительством в Бозе почившей императрицы, сказал слово, которое Московские Ведомости по справедливости назвали прекрасным и возвышенным и которое я бы желал назвать благородно-смиренным.
Вот отрывки из этой речи. Сперва г. Победоносцев говорит о том, как поминать покойную их покровительницу:
«Она сама завещала всем любящим ее поминать ее на литургии, когда приносится бескровная Жертва на престоле Господнем…»
«…До последних дней жизни она поминала с глубокою признательностью тех, кто ввел ее в Церковь и показал ей нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свете нашу Церковь, так, как любит человек, однажды узнавши, верховную красоту и ничего не хочет променять на нее…»
И еще:
«Только через Церковь можете вы сойтись с народом просто и свободно и войти в его доверие».
Потом:
«Одно прочно — простые дела милосердия: алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, а выше всего темную душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнем любви, — вот дела, которые пойдут вслед за нами».
В чем же разница между этими двумя речами, одинаково прекрасными в ораторском отношении?
И там «Христос», и здесь «Божественный Учитель». И там, и здесь — «любовь и милосердие». Не все ли равно? — Нет, разница большая, расстояние неизмеримое…
Во-первых, в речи г. Победоносцева Христос познается не иначе, как через Церковь: «любите прежде всего Церковь». В речи г. Достоевского Христос, по-видимому, по крайней мере, до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, т. е. с самими существенными положениями и безусловными требованиями православного учения, приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии».
Во-вторых, — о «милосердии и любви». И тут для внимательного ума большая разница. «Милосердие» г. Победоносцева — это только личное милосердие, и «любовь» г. Победоносцева — это именно та непритязательная любовь к «ближнему» — именно к ближнему, к ближайшему, к встречному, к тому, кто под рукой, — милосердие к живому, реальному, человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать, действительно как брату, в этот час… У г. Победоносцева нет и намека на собирательное и отвлеченное человечество, которого многообразные желания, противоположные потребности, друг друга борющие и исключающие, мы и представить себе не можем даже и в настоящем, не только в лице грядущих поколений…
У г. Победоносцева это так ясно: любите Церковь, ее учение, ее уставы, обряды, даже догматы (да, даже сухие догматы можно, благодаря вере, любить донельзя!). Будет вам приятна церковь, или (скажем проще) понравится вам ходить почаще к обедне или посещать внимательно монастыри, — вы захотите лучше понять учение; понявши учение, будете, по мере сил вашей натуры, жить по-христиански или, по крайней мере, понимать все по-христиански, как понимал по-христиански столь дурно живший мытарь. Церковь скажет вам вот что: «Не претендуйте постоянно пылать и пылать любовью…» Дело вовсе не в ваших высоких порывах, которыми вы восхищаетесь, — дело, напротив того, в покаянии и даже в некотором унижении ума. Не берите на себя лишнего, не возноситесь всё этими высокими и высокими порывами, в которых кроется часто столько гордости, тщеславия, честолюбия. Будьте свободолюбивы, если вам угодно, на почве политической (хотя и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться), но, ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно у Церкви и, даже, еще проще и прямее говоря, учитесь у русского духовенства, у этого сословия, столь несовершенного и нравственно, и умственно. Оно весьма несовершенно, это правда; быть может, оно по условиям исторического воспитания вышло несколько суше, несколько грубее нас, по-дворянски воспитанных мирян, это правда… Но оно знает учение Церкви; и даже (путей у Бога много!) самая эта сухость его могла располагать его сопротивляться порывистым новшествам. И еще: разве для горячих порывов необходимы только новшества? Или разве православие еще не достаточно у нас забыто и в светском обществе, и в ученом, чтобы не иметь возможности стать опять новым и увлекательным?.. Прекрасный сосуд не разбит еще, не расплавлен дотла на пожирающем огне европейского прогресса. Вливайте в него утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и только, — и вы будете правы.
По-видимому, в некоторых местах речи своей г. Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном. В этих местах он является по-прежнему вполне христианином, — только христианином, чего-то ясно и прямо не договорившим и что-то другое, лишнее, вместе с тем, пересказавшим.
Например:
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной «ниве»… Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и — станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде — мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».
Не договорено тут малости: не упомянуто о самом существенном — о Церкви.
Пересказано лишнее — о какой-то окончательной (?) гармонии.
Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил и которая испортила, по-моему, все прекрасное дело Ф. М. Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед «народом», перед «верой и правдой», которому и прежде многие нас учили.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: