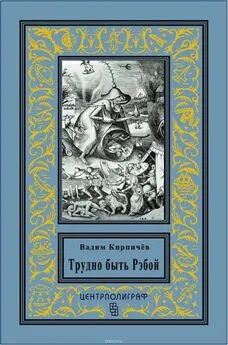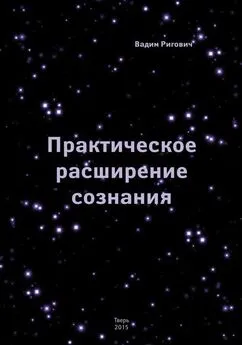Вадим Васильев - Трудная проблема сознания
- Название:Трудная проблема сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-316-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Васильев - Трудная проблема сознания краткое содержание
Книга посвящена обсуждению "трудной проблемы сознания" — вопроса о том, почему функционирование человеческого мозга сопровождается субъективным опытом. Рассматриваются истоки этой проблемы, впервые в четком виде сформулированной австралийским философом Д.Чалмерсом в начале 90-х гг. XX века. Анализируется ее отношение к проблеме сознание — тело и проблеме ментальной каузальности. На материале сочинений Дж. Серла, Д.Деннета, Д.Чалмерса и многих других аналитических философов критически оцениваются различные подходы к загадке сознания. В заключительной части книги автор предлагает собственное видение "трудной проблемы", позволяющее, с его точки зрения, избежать концептуальных тупиков и отдать должное интуициям здравого смысла
Трудная проблема сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хочу обратить внимание, что процитированные места взяты из интервью с Чалмерсом, проведенного С. Блэкмор. В этом интервью, помимо прочего, Чалмерс утверждает, что его «трудная проблема» не является чем‑то новым [65]. И в приведенной выше формулировке действительно слышатся традиционные мотивы, если истолковать ее как вопрос о том, каким образом сознание может быть встроено в физическую реальность. Но дело в том, что в оригинальном, «туссанском» виде «трудная проблема сознания» была поставлена несколько иначе (и в ее предварительном обсуждении несколькими страницами выше я учел это), вбирая не только вопрос о том, как объяснить зависимость сознания, или, как иногда выражается Чалмерс, «опыта» (experience), от мозга, но и о том, почему мозг является его основой: «Многие согласны, что опыт возникает на физической основе, но мы не можем как следует объяснить, почему и как он возникает подобным образом» [66]. Этот аспект «почему» не имеет явных прецедентов в прошлом, но сейчас мы сосредоточимся на аспекте «как», тем более что они, конечно же, связаны. Акцентировка на этом моменте, т. е. на положении, что существует сознание и мозг, и задача состоит в том, чтобы понять, как можно мыслить отношение этих реальностей и зависимость одного от другого полезна именно тем, что она позволяет разместить этот вопрос в традиционные контексты и рассматривать ответы на него даже со стороны мыслителей, не принимающих терминологию «трудной проблемы», но занимающихся сходными вещами. И прежде всего надо заметить, что, даже если согласиться, что Чалмерсу удалось сфокусировать проблему сознания, это еще не должно означать, что она будет решаемой. Далеко не все разделяют оптимизм по этому поводу. В конце XX века появилась даже целое направление «новых мистерианцев» (термин О. Фланагана [67]), т, е. философов, утверждающих, что проблема отношения сознания и мозга должна остаться «тайной» (mystery).
Во главе этого направления — американский философ с необъятными интересами (в поле которых попадают и Шекспир, и формальная логика, и кинематограф, и этика, и мета — философия) Колин Макгинн [68], но его вдохновителем является Н. Хомский, который в свое время провел различие между «проблемами», допускающими ясное решение, и «тайнами», в понимании которых нет никакого прогресса [69]. Надо, правда, сказать, что сам Хомский не спешит объявлять проблему сознания тайной. К числу таковых он [70]и относит, скорее, вопрос о внутренних причинах поведения». Но его последователи — Макгинн, а также зависящий от Макгинна в этом пункте С. Линкер — обобщили разрозненные замечания Хомского и составили [71]целый реестр тайн, включающий отношение сознания и мозга.
Аргументы, приводимые Макгинном в пользу своего тезиса о таинственности отношения сознания и мозга — он утверждает, что, хотя мы знаем, что сознание зависит от мозга, мы в принципе не можем понять [72]природу этой зависимости, — базируются на уже знакомой нам модульной теории сознания. Если сознание — это совокупность высокоспециализированных механизмов, каждый из которых настроен естественным отбором на реализацию вполне определенной функции, то вполне может оказаться, что имеется некий класс самих по себе несложных вопросов, которые, однако, являются недоступными для решения именно в силу отсутствия в нашей ментальной системе модулей, [73]предназначенных для ответа на них.
Если такие вопросы действительно существуют, то нам придется признать, утверждает Макгинн, что мы «когнитивно замкнуты» по отношению к ним — подобно тому, как животные когнитивно замкнуты относительно проблем, которые решает эмпирическая наука. Мы не замкнуты по отношению к ним — ведь это мы практикуем такую эмпирическую науку, — но замкнуты по отношению к другим проблемам. И в таком случае это уже не проблемы, а тайны.
Общая программа Макгинна вполне понятна, и остается лишь уяснить, по каким критериям мы можем установить свою замкнутость относительно тех или иных познавательных вопросов. Здесь аргументация Макгинна не столь прозрачна, и он порой модифицировал ее. Иногда — к примеру в трактате «Таинственный огонь» (1999) — он высказывался в том ключе, что человеческое познание распространяется лишь на те области, где оно может работать с комбинациями каких‑либо исходных элементов. Например, мы в состоянии понять и объяснить химические свойства вещества, исходя из особенностей атомов, составляющих его молекулы. Но ментальные состояния, такие, как радость или боль, не могут быть объяснены как результат сочетания тех или иных нейронных процессов. Именно поэтому их отношение к нейронным процессам непостижимо [74].
Этот аргумент не выглядит безупречным. В самом деле, даже если согласиться с комбинаторной интерпретацией человеческого интеллекта, которую предлагает Макгинн, из нее не следует, что анализ некоей материальной системы не может привести к выводу, что ее функционирование нельзя объяснить исходя из характеристик образующих ее физических компонентов. В таком случае пришлось бы допускать существование какого‑то дополнительного компонента, качественно отличного от других компонентов системы. Именно этот дополнительный компонент позволял бы ликвидировать бреши в объяснении. Но если этот компонент — не гипотетический конструкт, а нечто наличное во внутреннем опыте, то тогда, наоборот, вся эта схема может объяснять это ментальное состояние, т. е. она может показывать, почему такое состояние должно естественным образом обнаруживаться при данном характере физических процессов.
Таким образом, ничто не мешает объяснять существование определенных параметров материальных систем, даже если они не могут быть истолкованы как результат сочетания ее физических компонентов. Поэтому более перспективной кажется другая линия «мистерианских» рассуждений Макгинна, а именно та, которая сводится к тезису, что ментальные и физические состояния открываются людям, соответственно, во внутреннем и внешнем чувствах [75], но ни то ни другое не раскрывает нам «ноуменальное» свойство, от которого зависит связь мозга и сознания [76]. И мы никогда не узнаем его, так как, кроме указанных чувств, у нас нет выходов к реальности.
Эта позиция напоминает о кантовском различении вещей в себе и явлений и о кантовском же положении о непознаваемости первых. [77]
Сходство не случайно — сам Макгинн ссылается на Канта. Упоминание Канта в таком контексте может, однако, и не ограничиваться ссылкой на его концепцию вещей в себе и явлений. Суть в том, что Кант предлагал в чем‑то похожее на макгинновское решение проблемы отношения сознания и мозга — хотя кантовское решение было еще более радикальным и скептичным. И это скептическое решение состояло в том, что человеческий разум не в силах установить, каким образом они относятся друг к другу [78]. Этот вопрос выходит за пределы человеческого познания. Все, что мы можем сделать — констатировать эмпирическую корреляцию ментальных и физических феноменов, данных нам во внутреннем и внешнем чувствах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: