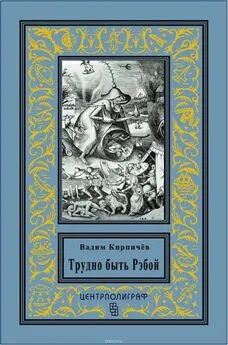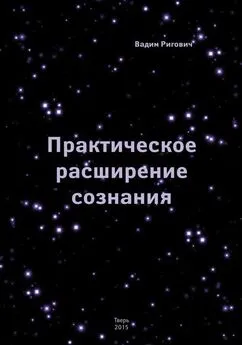Вадим Васильев - Трудная проблема сознания
- Название:Трудная проблема сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-316-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Васильев - Трудная проблема сознания краткое содержание
Книга посвящена обсуждению "трудной проблемы сознания" — вопроса о том, почему функционирование человеческого мозга сопровождается субъективным опытом. Рассматриваются истоки этой проблемы, впервые в четком виде сформулированной австралийским философом Д.Чалмерсом в начале 90-х гг. XX века. Анализируется ее отношение к проблеме сознание — тело и проблеме ментальной каузальности. На материале сочинений Дж. Серла, Д.Деннета, Д.Чалмерса и многих других аналитических философов критически оцениваются различные подходы к загадке сознания. В заключительной части книги автор предлагает собственное видение "трудной проблемы", позволяющее, с его точки зрения, избежать концептуальных тупиков и отдать должное интуициям здравого смысла
Трудная проблема сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Специфику философии можно почувствовать, если задуматься о различиях философских и нефилософских проблем. Эти различия интуитивно схватываются уже на обыденном уровне, но их концептуализация может потребовать некоторых усилий. К примеру, мы слышим три ювенильных вопроса: что такое молот? что такое вода? что такое вещь? Трудно спорить, что первый вопрос не имеет отношения ни к экспериментальной науке, ни к философии, ответ на второй дает ученый, на третий — философ. Но чем же отличаются эти вопросы? Первый задан о старинном артефакте, определение которого должно даваться в терминах функций, дополненных остенсивными пояснениями [2] [2] Потребность в них говорит о том, что в крипкеанской теории референции есть своя правда. Собственно, вот эта книга: Ebert J. J. Unterweisung in den philo‑sophischen und mathematischen Wissenschaften fur die obern Classen der Schulen und Gymnasien. 4 Aufl. Lpz., 1796. S. 593. Еще в начале XIX в. некоторые — к примеру Гегель — сомневались, что вода — это действительно Н 2 0.
, т. е. для ответа на вопрос «что такое молот?» надо указать на какой‑то молот и сказать: «Молот — это нечто вроде такой штуковины, предназначенной для обработки металла». Вопрос этот и ответ на него не имеют отношения к экспериментальной науке: она занимается установлением причин, наличие которых в опыте приводит к появлению тех или иных вещей, а функции вещей не могут рассматриваться как достаточные условия их возникновения.
Вопрос о том, что такое вода, имеет несколько иной оттенок. Ответ на него предполагает экспериментальное исследование состава жидкости, которая в повседневной речи именуется водой. Это исследование трудоемко, и неудивительно, что формула воды была установлена лишь в конце XVIII века (не без удовольствия вспоминаю, как в одном немецком учебнике того времени я наткнулся на фразу о том, что, согласно новейшим гипотезам, вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода, хотя, — продолжал автор, — это смелое предположение Лавуазье еще предстоит проверить) [3].
Теперь вопрос о вещи. Можно ли представить, что подобно тому, как была установлена химическая структура воды, можно будет когда‑нибудь распознать химическую структуру вещи? Или что понятие вещи можно определить через указание на ее функцию? Обе ситуации кажутся просто нелепыми.
Через функцию можно определять артефакты, а вещь — не обязательно артефакт. Что же касается химической структуры, то совершенно очевидно, что ее нельзя установить из‑за того, что понятие вещи настолько общее, что говорить о ее конкретном устройстве невозможно.
О чем же тогда можно говорить, отвечая на вопрос, что такое вещь? Ведь вопрос этот не выглядит бессмысленным. Первое, что приходит на ум: можно говорить о правилах употребления слова «вещь» — «вещью мы называем то‑то и то‑то». Это хороший ответ. Но в нем кроется большая проблема. Ведь слова — такие же артефакты, как инструменты или глянцевые журналы, и если вопрос «что такое вещь?» сводится к вопросу «какова функция слова "вещь"?», то этот вопрос ничем принципиально не отличается от вопроса «что такое молот?», который мы только что изгнали из науки и философии.
Читатели должно быть уже догадались, что если сказанное в предыдущем абзаце верно, то философия как научное предприятие — в том понимании, которое я отстаиваю — повисает в пустоте. Разумеется, никто не запрещает уточнять, в каких ситуациях употребляются те или иные слова, и если войти во вкус, это может стать по — настоящему увлекательным занятием, но если это все, то надо помнить, что философия начинается уже с молота [4]. Сомневаюсь, правда, что Джон Остин или тем более поздний Витгенштейн, которые пропагандировали именно такое понимание философии [5], стали бы отрицать, что переход философии на «молоты» и «наковальни» являл бы собой выход за пределы языковой игры, в которой задействовано слово «философия». А поскольку такой выход запрещен их же философией, так как он приводит к бессмыслице (во многих случаях это и впрямь так), то отсюда следует, что ответы на философские вопросы не являются однопорядковыми с ответами на вопросы о сущности таких артефактов, как наковальни или молоты [6]. Но однопорядковыми они не будут лишь в том случае, если неоднопорядковы сами слова, правила употребления которых мы устанавливаем. Иными словами, есть нефилософские слова и философские слова. Философия выявляет правила употребления философских слов. Это хорошо, вот бы только понять, какие слова являются философскими?
Путеводная нить «вещи» заставляет предположить, что дело в общности. Философские слова — это слова с очень широким употреблением — такова будет наша новая гипотеза. Кому‑то она может показаться правдоподобной, но, на мой взгляд, она может представляться истинной лишь в силу привходящих обстоятельств. Непонимание этого момента породило множество путаницы и псевдопроблем. Скажем, слово «сущее» — наверное, самое общее, если смотреть на его применение. И многие считали, что в философии есть такая проблема, проблема сущего. Думаю, нет такой проблемы [7].
Почему нет? Да потому, что в слове «сущее» нет одной важной детали, которая присутствует в слове «вещь», да и во множестве других философских слов вроде «материи» или «причины». Чтобы прочувствовать эту деталь, предлагаю немного поразмышлять о некоем возможном мире, тем более, что наши современники Сол Крипке, Дэвид Льюис и др. сделали такие размышления привычными для нас. Возможный мир, в который я предлагаю заглянуть — это мир, изображенный в «Логико — философском трактате» Витгенштейна.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: