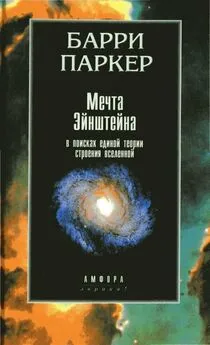Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории
- Название:Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-397-03778-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории краткое содержание
Эта книга, впервые опубликованная в 1996 году, стала одним из самых заметных философских трактатов конца XX века. В наши дни уже не удастся найти серьезных работ по проблеме сознания, в которых не было бы ссылок на Чалмерса.
«Сознающий ум» — увлекательный философский рассказ о глубочайших парадоксах и тайнах сознания. Это провокативная работа, в которой сделана попытка обосновать «натуралистический дуализм», исходя из тезиса автора о нефизической природе сознания и его зависимости от функциональных схем в мозге. Чалмерс также утверждает, что его теория открывает новые перспективы для интерпретации квантовой механики и позволяет говорить о возможности сознательных роботов.
Ясность изложения, смелость идей, изобретательность мысленных экспериментов, точность рассуждений и широкая эрудиция автора делают эту книгу настоящим подарком для всех, кто интересуется философией.
Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. Крах редуктивного объяснения
Отсутствие логической супервентности сознания на физическом означает невозможность редуктивного объяснения сознания. При любой характеристике физических процессов, предположительно лежащих в основе сознания, всегда будет возникать дополнительный вопрос: почему эти процессы сопровождаются сознательным опытом? В случае большинства других феноменов на подобный вопрос несложно ответить: физические факты о таких процессах влекут существование указанных феноменов. К примеру, если мы говорим о таком феномене, как жизнь, то физические факты имплицируют осуществление определенных функций, а осуществление этих функций и есть всё, что нам нужно объяснить для объяснения жизни. Но когда речь идет о сознании, такого рода ответ не проходит.
Физическое объяснение хорошо подходит для объяснения структуры и функции. Структурные и функциональные свойства могут быть напрямую выводимы из низкоуровнего физического описания и поэтому с очевидностью пригодны для редуктивного объяснения. И почти все высокоуровневые феномены, нуждающиеся в объяснении, в конечном счете сводятся к структуре и функции: подумаем, к примеру, об объяснении водопадов, планет, переваривания пищи, размножения, языка. Но объяснение сознания не сводится к объяснению структуры и функции. После объяснения всей физической структуры, связанной с мозгом, и объяснения механизмов осуществления различных функций мозга нам еще надо объяснить само сознание. Почему вся эта структура и функция должны порождать опыт? Рассказ о физических процессах не отвечает на этот вопрос.
Мы можем представить это в терминах мысленных экспериментов, о которых мы говорили ранее. Любое рассуждение о физических процессах в равной мере применимо ко мне и к моему зомбийному двойнику. Отсюда следует, что ничто в этом рассуждении не объясняет, почему в моем случае возникает сознание. Аналогичным образом любое рассуждение о физических процессах в равной мере применимо к моему инвертированному двойнику, видящему синее там, где я вижу красное, из чего следует, что ничто в этом рассуждении не объясняет, почему мои переживания являются именно такими, а не какими‑то иными. Сам факт логической возможности одинаковости физических фактов при различии фактов о сознании демонстрирует нам то, что Левин (Levine 1983) называет объяснительным провалом между физическим уровнем и сознательным опытом.
Если это так, то факт сопровождения сознанием того или иного физического процесса — дополнительный факт , не объяснимый одними лишь рассуждениями о физических фактах. В каком‑то смысле это сопровождение надо принимать просто как данность. Мы могли бы попытаться систематизировать и объяснить эти грубые факты в терминах какой‑то простой и более фундаментальной схемы, но при этом всегда будет оставаться элемент, логически независимый от этой физической истории. Возможно, мы могли бы получить что‑то вроде объяснения, сочетая базовые физические факты с дополнительными связующими принципами, сопрягающими эти факты с сознанием, но такое объяснение не будет редуктивным. Сама потребность в развернутых связующих принципах показывает, что сознание объясняется не редуктивно, а в его собственных терминах.
Разумеется, сказанное мной не означает, что физические факты не имеют отношения к объяснению сознания. Мы всё же можем ожидать, что физические объяснения играют весомую роль в теории сознания, предоставляя, к примеру, информацию о физической основе сознания и, возможно, позволяя в деталях представить соответствие между различными аспектами физических процессов и сознательного опыта. Подобные объяснения могут быть особенно полезными для понимания структуры сознания: схем сходства и различия переживаний, геометрической структуры феноменальных полей и т. п. Подробнее мы поговорим об этих и других вещах, которые можно узнать об опыте из физических объяснений в нередуктивном контексте, в главе 6. Но одного физического объяснения мало.
На этой стадии естественно может возникнуть ряд возражений.
Можно было бы сказать, что объяснение любых высокоуровневых феноменов будет сопровождаться допущением «связующих законов», дополняющих низкоуровневое описание, и что только с помощью этих связующих законов можно конкретизировать детали высокоуровневых феноменов. Однако, как можно заключить из обсуждения в предыдущей главе (и как тщательно доказывает Хорган (Horgan 1978)), в подобных случаях связующие законы не являются дополнительными фактами о мире. Скорее, соединительные принципы сами оказываются логически супервентными на низкоуровневых фактах. Предельным случаем такого связующего принципа является супервентностный кондиционал, который, как мы видели, обычно может быть представлен в качестве концептуальной истины. Другие, более «локализованные» связующие принципы, такие как звено, сопрягающее молекулярное движение и тепло, могут по крайней мере выводиться из физических фактов. В случае же сознания подобные связующие принципы должны приниматься как нечто изначальное.
Интересно посмотреть, каким образом типичное высокоуровневое свойство, такое, к примеру, как жизнь, ускользает от аргументов, обсуждавшихся нами, когда речь шла о сознании. Во — первых, непосредственно не представима физическая копия живого существа, которая сама не была бы живой. Здесь могла бы возникать проблема, связанная со свойствами, зависимыми от контекста (был бы живым или был бы человеком двойник, случайно возникший в каком‑то болоте?), но фиксация фактов об окружении элиминирует даже эту возможность. Во — вторых, здесь невозможна ситуация с «инвертированной жизнью» по аналогии с инвертированным спектром. В — третьих, если мы знаем все физические факты об организме (и, возможно, о его окружении), в нашем распоряжении имеется достаточно материала для знания обо всех биологических фактах. В — четвертых, в отношении жизни не существует эпистемической асимметрии; факты, касающиеся жизни других существ, в принципе не менее доступны, чем факты, касающиеся нашей собственной жизни. В — пятых, понятие жизни вполне можно проанализировать в функциональных терминах: быть живым — значит, грубо говоря, обладать определенными способностями к адаптации, размножению и метаболизму. В общем, большинство высокоуровневых феноменов сводится к физической структуре и функции, и у нас есть серьезное основание полагать, что структурные и функциональные свойства логически супервентны на физическом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: