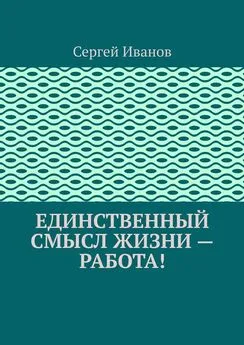Р. В. Иванов-Разумник - О смысле жизни
- Название:О смысле жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. В. Иванов-Разумник - О смысле жизни краткое содержание
Настоящее ФИО: Разумник Васильевич Иванов. Русский критик, мыслитель. Был близок к левым эсерам, активно поддержал Октябрьскую революцию. В 1918 году оказался «левее Ленина», категорически не приняв Брестский мир. В последующие годы неоднократно подвергался арестам. Известен своей редакторской деятельностью: издания Панаева, Белинского, Ап. Григорьева, Салтыкова-Щедрина и других. В 30-е годы подготовил собрание сочинений Александра Блока.
О смысле жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Въ «Апоѳеозѣ безпочвенности» Л. Шестовъ выставляетъ все новые и новые иллюстраціи и аргументы для доказательства прежнихъ своихъ, уже извѣстныхъ намъ мыслей. Кромѣ Толстого, Достоевскаго, Нитцше, онъ привлекаетъ въ качествѣ свидѣтелей еще и Тургенева, Чехова, Гейне, Ибсена? послѣднихъ двухъ въ статьѣ «Предпослѣднія слова», представляющей непосредственное продолженіе «Апоѳеоза безпочвенности» (см. т. V). Небезъинтересно будетъ замѣтить, что «Апоѳеозъ безпочвенности» первоначально былъ написанъ какъ одно цѣлое, подъ заглавіемъ «Тургеневъ и Чеховъ»; отмѣтимъ также, что, по промелькнувшимъ въ печати извѣстіямъ, Л. Шестовъ подготовляетъ въ настоящее время къ печати работу объ Ибсенѣ. Конечно, и эта работа, въ какую бы форму она ни вылилась, будетъ только развитіемъ уже вполнѣ опредѣлившейся системы мыслей Л. Шестова, какъ это случилось и съ «опытомъ адогматическаго мышленія»? «Апоѳеозомъ безпочвенности». Заранѣе можно предсказать, что мы услышимъ отъ Л. Шестова про Ибсена: услышимъ то же самое, что уже слышали о Толстомъ, о Достоевскомъ, о Нитцше. Л. Шестовъ покажетъ намъ, что Ибсенъ сначала былъ преданъ «добру», а впослѣдствіи, когда жизнь была уже прожита, онъ увидѣлъ, что добро не помогло ему осмыслить жизнь, что жизнь его безплодно растрачена, что безвозвратно погибла жизнь, пропала жизнь: это и выразилъ Иб-сенъ въ своей драмѣ «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», отрекаясь устами Рубека отъ прежней «проповѣди» во имя отвергнутой ранѣе жизни? Ирены (см. V, 150). И что дурного въ томъ, если именно такова будетъ старая схема новой книги Л. Шестова? Схема? условность; схема? лѣса при постройкѣ зданія; схемой надо пользоваться, но стоять выше нея.
Эту же знакомую намъ схему мы находимъ и въ «Апоѳеозѣ безпочвенности» и въ сборникѣ статей «Начала и Концы». Теперь Л. Шестовъ съ еще большей силой возстаеть противъ того самаго вопроса «зачѣмъ», на которомъ когда-то была построена вся его книга о Шекспирѣ; онъ теперь признаетъ, что случай, драма, (??????? необъяснимы, что на вопросъ о смыслѣ жизни нѣтъ отвѣта. Смысла, «правды»? нѣтъ на землѣ; но? «правды нѣтъ и выше: для меня такъ это ясно, какъ простая гамма», говоритъ пушкинскій Сальери. «Нѣтъ ни одного человѣка на землѣ,? замѣчаетъ Л. Шестовъ,? который бы въ этихъ простыхъ и глубокихъ словахъ не узналъ бы собственныхъ мучительнѣйшихъ сомнѣній. Отсюда вытекаетъ трагическое творчество… Мы съ испугомъ и недоумѣніемъ останавливаемся при видѣ уродства, болѣзни, безумія, нищеты, старости, смерти» (IV, 66). Прежде Л. Шестовъ при видѣ всего этого задавалъ себѣ вопросъ? «зачѣмъ?» и пытался отвѣтить на него путемъ анализа трагедій Шекспира; теперь онъ самъ высмѣиваетъ «метафизику» своего прежняго отвѣта. При видѣ всего этого безумнаго ужаса жизни,? говоритъ онъ,? «нужно или, стиснувъ зубы, молчать, или объяснять. Вотъ за дѣло объясненія и берется метафизика. Тамъ, гдѣ обыкновенный здравый смыслъ останавливается, метафизика считаетъ себя въ правѣ сдѣлать еще одинъ шагъ. „Мы видѣли, говоритъ она, много случаевъ, когда страданія, съ перваго взгляда казавшіяся нелѣпыми и ненужными, потомъ оказывались имѣющими глубокій смыслъ. Можетъ быть и тѣ, которыя мы не умѣемъ объяснить, все-таки имѣютъ свое объясненіе“… И такъ далѣе, и такъ далѣе: еще цѣлыхъ двѣ страницы иронически продолжаетъ свою рѣчь отъ лица „метафизики“ Л. Шестовъ. Конечно, онъ говоритъ о себѣ самомъ той эпохи, „когда легковѣренъ и молодъ онъ былъ“, когда онъ смѣло утверждалъ, что „случая нѣтъ, а?????? есть лишь необъяс-ненный случай“, когда онъ ничтоже сумняся заявлялъ, что нѣтъ нелѣпаго трагизма, а есть лишь разумная необходимость. А теперь… теперь, если бы въ руки Л. Шестова попала міродержавная власть, съ какимъ наслажденіемъ послалъ бы онъ къ чорту эту „разумную необходимость“ и безъ дальнихъ размышленій устранилъ бы съ земли всѣ страданія, все безобразіе, всѣ неудачи! (IV, 182–184).
Но разъ власти этой въ рукахъ нѣтъ? „остается одно средство: вопреки традиціямъ, теодицеямъ, мудрецамъ и, прежде всего, самому себѣ? продолжать по-преж-нему прославлять мать природу и ея великую благость. Пусть съ ужасомъ отшатнутся отъ насъ будущія поколѣнія, пусть исторія заклеймить наши имена, какъ имена измѣнниковъ общечеловѣческому дѣлу? мы все-таки будемъ слагать гимны уродст-ву, разрушенію, безумію, хаосу, тьмѣ. А тамъ? хоть трава не расти“ (IV, 158). Остается, такимъ образомъ, апоѳеозъ жестокости, остается amor fati… И хотя въ одномъ изъ своихъ афоризмовъ Л. Шестовъ и старается увѣрить себя, что amor fati есть только временное перемиріе съ дѣйствительностью, что „подъ личиной дружбы старая вражда продолжаетъ жить и готовится страшная месть“ (IV, 72), но это только безсодержательныя слова безъ всякаго реальнаго значенія. Нѣтъ, онъ безповоротно принимаетъ всѣ ужасы дѣйствительности, твердымъ голосомъ говоритъ имъ: да будеть такъ. Спрашивать онъ давно пересталъ; осмыслить жизнь все равно нельзя, на „зачѣмъ“ все равно нѣтъ отвѣта. Въ этомъ случаѣ права молодость,? говоритъ Л. Шестовъ:? она никогда не спрашиваетъ. „О чемъ ей спрашивать? Развѣ пѣсня соловья, майское утро, цвѣтокъ сирени, веселый смѣхъ и всѣ прочіе предикаты молодости требуютъ истолкованія? Наоборотъ, всякое истолкованіе къ нимъ сводится. Настоящіе вопросы впервые возникаютъ у человѣка при столкновеніи со зломъ. Заклевалъ ястребъ соловья, увяли цвѣты, заморозилъ Борей смѣявшагося юношу и мы въ испугѣ начинаемъ спрашивать… А разъ начинаются вопросы? нельзя, да и ненужно торопиться съ отвѣтами. И тѣмъ менѣе? предвосхищать ихъ. Соловей умеръ и не будетъ больше пѣть, человѣкъ, его слушавшій, замерзъ, уже не слыхать ему больше пѣсенъ. Положенiе такъ очевидно нелѣпое, что только при очевидномъ же желанiи во что бы то ни стало сбыть вопросъ можно стремиться къ осмысленному отвѣту. Отвѣтъ будетъ, долженъ быть нелѣпымъ? если не хотите его, перестаньте спрашивать…“ (IV, 154; курс. нашъ). Этимъ Л. Шестовъ окончательно зачеркиваетъ всю свою книгу о Шекспирѣ, окончательно упраздняетъ вопросъ „зачѣмъ“. Жизнь должна быть принята нами со всѣми ея ужасами, ибо смысла этихъ ужасовъ намъ не дано разгадать; болѣе того, прибавимъ мы отъ себя, этого смысла и вовсе не существуетъ. Тщетны поиски за perpetuum mobile, котораго не можетъ быть, пока существуетъ законъ сохраненія энергіи; тщетны попытки обоснованія объективнаго смысла жизни, пока человѣкъ есть человѣкъ, а не пресловутый сверхчеловѣческій геній Лапласа.
Интересно отмѣтить, какъ у Л. Шестова, несмотря на весь его субъективизмъ, иногда прорывается своеобразная „тяга къ объективизму“. Задыхаясь порою подъ гнетомъ своего фатализма, онъ ищетъ спасенія въ „метафизическихъ утѣшеніяхъ“. Такъ пріятно помечтать на утѣшительную тему: а вдругъ и безсмыслица имѣетъ смыслъ?! И притомъ смыслъ объективный. А вдругъ окажется, что всѣ ужасы земли? это только испытаніе человѣческаго духа: „кто выдержитъ ихъ, кто отстоитъ себя, не испугавшись ни Бога, ни дьявола съ его прислужниками? тотъ войдетъ побѣдителемъ въ иной міръ…“ (V, 174). А вдругъ окажется, что самая вопіющая нелѣпость? напримѣръ, безсмысленная старость Плюшкина? имѣетъ вполнѣ опредѣленное объективное значеніе: „кто знаетъ? можетъ быть, онъ (Плюшкинъ) дѣлаетъ свое возложенное на него природой, серьезное и важное дѣло…“ (IV, 90). Но мы уже видѣли, какъ отвѣчаетъ Л. Шестовъ на всѣ эти „метафизическія утѣшенія“, на всѣ эти „а вдругъ“ и „можетъ быть“, на всю эту идеологическую отрыжку его былыхъ надеждъ и упованій на разумную дѣйствительность: вспомните его ироническую рѣчь отъ лица метафизики, приведенную нами страницею выше. Всѣ эти объективные соблазны, столь заманчивые для слабыхъ духомъ людей, въ концѣ концовъ безсильны надъ Л. Шестовымъ, хотя онъ иногда и платитъ имъ дань; вообще же онъ категорически отказывается искать объективный смыслъ въ жизни человѣка: онъ принимаетъ лишь субъективный смыслъ этой жизни. Для него развитіе, прогрессъ не имѣетъ объективной цѣли; онъ заявляетъ, что прогрессъ во времени есть чистѣйшее заблужденіе (если имѣть въ виду объективную цѣль этого прогресса); „вѣроятнѣе всего, и есть развитіе,? говоритъ онъ,? но направление этого развитiя есть линiя перпендикуляра къ линiи времени. Основанiемъ же перпендикуляра можетъ быть любая человѣческая личность“ (V, 127). Подчеркнутыя нами слова выражаютъ собою въ скрытомъ видѣ все ту же нашу мысль о субъективной цѣлесообразности нашихъ переживаний и о самоцѣльности каждаго даннаго момента.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: