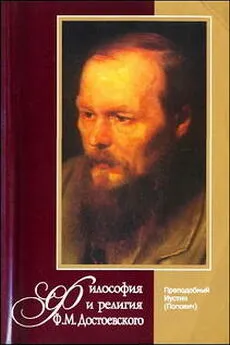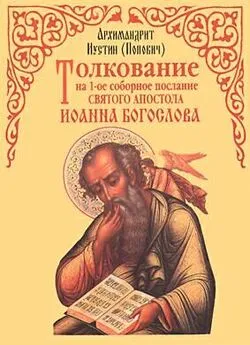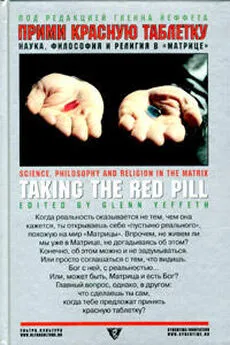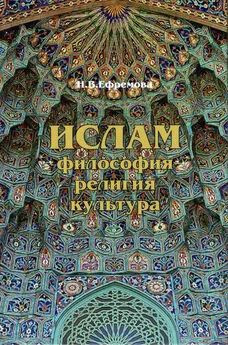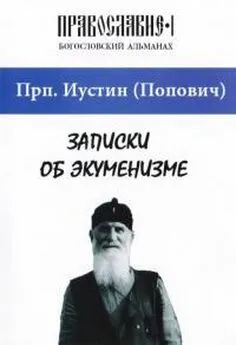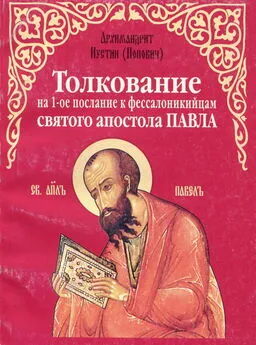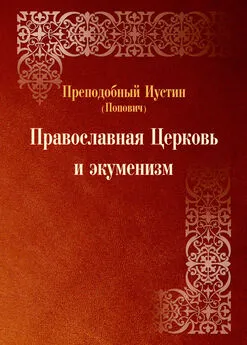Иустин Попович - Философия и религия Ф.М. Достоевского
- Название:Философия и религия Ф.М. Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издатель Д. В. Харченко
- Год:2007
- ISBN:ISBN 978–985–90125–1-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иустин Попович - Философия и религия Ф.М. Достоевского краткое содержание
Достоевский не всегда был современным, но всегда — со–вечным. Он со–вечен, когда размышляет о человеке, когда бьется над проблемой человека, ибо страстно бросается в неизмеримые глубины его и настойчиво ищет все то, что бессмертно и вечно в нем; он со–вечен, когда решает проблему зла и добра, ибо не удовлетворяется решением поверхностным, покровным, а ищет решение сущностное, объясняющее вечную, метафизическую сущность проблемы; он со–вечен, когда мудрствует о твари, о всякой твари, ибо спускается к корням, которыми тварь невидимо укореняется в глубинах вечности; он со–вечен, когда исступленно бьется над проблемой страдания, когда беспокойной душой проходит по всей истории и переживает ее трагизм, ибо останавливается не на зыбком человеческом решении проблем, а на вечном, божественном, абсолютном; он со–вечен, когда по–мученически исследует смысл истории, когда продирается сквозь бессмысленный хаос ее, ибо отвергает любой временный, преходящий смысл истории, а принимает бессмертный, вечный, богочеловеческий, Для него Богочеловек — смысл и цель истории; но не всечеловек, составленный из отходов всех религий, а всечеловек=Богочеловек." Преп. Иустин (Попович) "Философия и религия Ф. М. Достоевского"
Исходный pdf - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3723504
Философия и религия Ф.М. Достоевского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Необъяснимый трагический комизм существования вообще порождает в человеке безысходно невыносимые мысли: «Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой‑то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет? Грусть этой мысли, главное — в том, что опять‑таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто всё произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo: — так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю, и очевидно для меня, и понять никогда не в силах; — так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить; — так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого [98] Там же. С. 349.
, и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе); — так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным; — то, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению… А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого» [99] Курсив Достоевского.
.
Сознание делает человека несчастным, уединяет его до полной оторванности от мира, доводит его до самоубийственного отчаяния, в то время как природа его окружает со всех сторон и он живет в ней, как в некоем отвратительном и огромном черепе мертвеца. «О, природа! — вопиет Достоевский. — Люди на земле одни — вот беда!<���…>Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!» [100] Кроткая. С. 409.
.
Ввергнутый в «дьявольский хаос», в пасть чудовища, называемого время и пространство, несчастный человек протестует своим атомным умом, по–бунтарски отказывается принимать таким образом устроенный мир, бросает проклятие на всё и упорно остается при нем, ибо оно — «его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных» [101] Записки из подполья. С. 95.
. Человек, проклиная, отдает долг тому, кто его создал проклятым. «Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!», поэтому: «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..» [102] Дневник писателя за 1876 г. С. 386; Кроткая. С. 409.
.
Неприятие мира достигает своей высшей точки и окончательной полноты в неприятии Христа. Бурные души бунтующих антигероев не считают, что проблема решена неприятием мира, так как они настолько взбудоражены трагизмом мира, что не могут упустить из виду близкую связь Христа с этим миром. И прежде чем решиться на самоубийственное отчаяние и последнюю анафему, они неизбежно, инстинктивно и добровольно поворачиваются ко Христу, мобилизуют все свои силы и искренне борются с Ним, чтобы Им победить мир; или: миром — Его. Говорят: Христос есть Логос мира и оправдание жизни, но эвклидовский ум утверждает: мир есть безлогосное чудовище, а жизнь — неоправданная бессмыслица, ужас и хаос. Невыносимо мучимый абсурдностью этого мира, человек содрогается и вопрошает: неужели возможно, чтобы где‑то было такое существо, которое могло бы неопровержимо оправдать этот мир и изгладить все злодеяния, которое могло бы искупить все страдания, не уничтожив самосознание человеческое? Говорят, якобы Христос и есть такое существо, такой Искупитель; но это все же не снимает вопроса: разве можно быть Искупителем такого мира, который устройством своим исключает всякую возможность искупления? Если же допускается и эта возможность, то возникает вопрос: может ли эвклидовский ум человеческий признать и принять Христа как оправдание жизни, если Его Личность и Его план спасения не могут вместиться в узкие категории ума?
Достоевский — великий аналитик и знаток человеческого ума, его границ, сил и возможностей, — в своем «Великом Инквизиторе» подвергает Христа и Его план спасения необычной критике, которую осуществляет эвклидовским умом своим Иван. Чтобы критика была как можно живее и непосредственнее, Иван придает ей форму поэмы, в которой Христос лично встречается с великим инквизитором. Это происходит в Испании, в городе Севилье, в средневековье, в самое страшное время инквизиции. Однажды, сразу после того как кардинал, великий инквизитор, в «великолепном аутодафе» сжег разом чуть не целую сотню еретиков ad majorem Dei gloriam, Он появился тихо, незаметно, — и вот все узнают Его. Народ непобедимою силою стремится к Нему, окружает Его, собирается вокруг Него толпами, следует за Ним, Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Он простирает к ним руки, благословляет их, исцеляет — слепые прозревают, хромые начинают ходить. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он, Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют Ему: «Осанна!» «Это Он, это Сам Он, повторяют все, это должен быть Он, это никто, как Он». В это время появляется похоронная процессия: семилетнюю девочку, единственную дочь у матери, несут хоронить. Несчастная мать рыдает и, увидев Его, повергается к ногам Его, вопия: «Если это Ты, то воскреси дитя мое!» Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и еще раз произносят: «Талифдкулш» — «нвоста девицл». В народе смятение, крики, рыдания, и вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И стража тотчас берет Его и уводит в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании Святого Судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная севильская ночь. И в глухую пору ночи неожиданно отворяется железная дверь тюрьмы и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он останавливается при входе и долго всматривается в лицо Его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему: «Это Ты? Ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать?.. Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков…» [103] Дневник писателя за 1876 г. С. 386; Кроткая. С. 409.
.
Интервал:
Закладка: