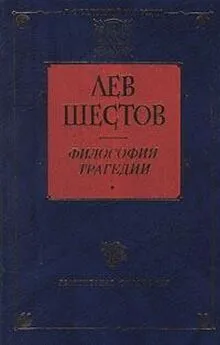Лев Шестов - Достоевский и Ницше

- Название:Достоевский и Ницше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Шестов - Достоевский и Ницше краткое содержание
Достоевский и Ницше - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но не только "философ" - все мы, люди современного воспитания, уже в силу условий нашего развития едва ли способны правильно судить о природе и пределах нашего познания и об "истине". Правда, суеверие всегда жило между людьми и нельзя назвать такой эпохи, когда бы какая-нибудь ошибка не почиталась истиной, и великой истиной. Но никогда еще люди не были так глубоко убеждены в непогрешимости их методологических приемов, как в наше время. Наш век ведь называют веком скептицизма par excellence, иначе говоря, полагают, что ежели мы что-либо выдаем за истину, то лишь после самого тщательного и внимательного ее исследования, когда уже не может относительно нее быть никакого сомнения. "Верить" же мы совсем не умеем, если бы даже и хотели. А между тем, уже с детства мы приучаемся "верить" и, главное, верить самым неправдоподобным вещам! Крестьянский мальчик или молодой дикарь тоже, конечно, верят тому, что им рассказывают старшие. Но им обыкновенно ничего неправдоподобного, насилующего мысль и не рассказывают. Им сообщают, например, что существуют колдуны, лешие, ведьмы. Все это - неправда, всего этого нет, но ведь все это мыслимо, понятно. Из этих рассказов молодой ум лишь выводит заключение, что есть вещи очень страшные и интересные, которые ему еще не приходилось видеть, но которые, быть может, он когда-нибудь и увидит собственными глазами. Иное дело ребенок нашего общества: от сказок его голова свободна, он знает, что чертей и волшебников не бывает и приучает свой ум не верить россказням такого рода, даже если бы в душе и была у него склонность к чудесному. Но зато уже с самого раннего возраста ему сообщают положительные сведения, неправдоподобность которых превосходит решительно все выдумки, на которые когда-либо пускались самые фантастические составители сказок. Ему, например, говорят - и таким авторитетным тоном, в виду которого умолкает и должно умолкнуть всякое сомнение - что земля не неподвижна, как об этом свидетельствует очевидность, что солнце не обегает земли, что небо не твердь, что горизонт - только оптический обман и т. д. без конца. Все это узнается в раннем, очень раннем детстве и обыкновенно даже без тех соображений и доказательств, которые приводятся в элементарных учебниках географии. И все это принимается как несомненная, не подлежащая даже проверке истина, ибо исходит от старших, ибо написано в книгах. Скажите, какая сказка, даже не из тех, которые рекомендуются образованными людьми для народа, а из тех, которые изготовляются безграмотными писателями в целях наживы, заключает в себе больше очевидной для ребенка лжи, чем преподаваемые ему нами истины? Колдун, ведьма, дьявол - это только нечто новое, но понятное, не противоречащее очевидности. Вертящаяся же земля, неподвижное солнце, фиктивное небо и т. п. - все это ведь верх бессмыслицы для ребенка. И тем не менее это - истина, он знает это наверное и с этой неправдоподобной истиной он живет целые годы. Разве такое насилие над детским умом может не изуродовать его познавательные способности? Разве вера в смысл бессмыслицы не становится его второй природой? И разве в конце концов у каждого из нас не должна навеки остаться в душе склонность принимать за истину только то, что представляется всему нашему существу как ложь? Или - если этот вывод покажется слишком парадоксальным или преувеличенным - разве, во всяком случае, у нас не должно быть готовности верить в очевидную для нас нелепость (intelligere, иначе говоря), раз только она обставлена известной аргументацией и исходит от ученых людей или из их книг? Например, в шопенгауэровскую волю, кантовскую Ding an sich, спинозовского deus sive natura? Наш ум, в детстве усвоивший столько нелепостей, потерял способность к самозащите и принимает все, кроме того, от чего его подстерегали с детства же, т. е. чудесного, иначе говоря, действия без причины. Тут он всегда настороже, тут его ничем не заманишь, ни красноречием, ни вдохновением, ни логикой. Но раз нет чудесного - все пройдет. Что, например, "понимает" современный человек в словах "естественное развитие мира"? Забудьте на минуту, на одну минуту, если только это возможно, свою "школу", и вы сразу убедитесь, что развитие мира ужасно неестественно: естественно бы было, если бы не было ничего - ни мира, ни развития. А между тем, среди современных людей нет почти ни одного, который бы не верил в догму естественности так же прочно, как верит набожный католик в непогрешимость папы. Даже более того: католика еще можно как-нибудь разуверить, современный же человек ни за что не примет серьезно мысли о том, что мир развился неестественно и что, стало быть, произвол в природе, действие без причины, о котором говорит Милль, годится не только как указание пределов нашего познания. Для него, как и для Милля и Канта, это истина, вне которой не может быть не только мышления, но и жизни. Те, которые отрекаются от нее, казнятся по общему убеждению ужаснейшим их существующих наказаний: вечным бесплодием. Вот каким драконом охраняется позитивизм и идеализм! У кого хватит мужества вступить с ним в борьбу? И как может обыкновенный человек, только человек, отважиться на такой страшный подвиг, возвестить открыто: нет ничего истинного, все позволено? Не нужно ли ему для этого прежде всего перестать быть человеком, не нужно ли ему отыскать в себе иные, еще неизвестные, неиспытанные силы, которыми мы до сих пор пренебрегали, которых мы боялись? Послушайте молитву Ницше, и вы поймете хоть отчасти, как рождаются убеждения в нашей душе и что значит идти своим путем и иметь свой взгляд на жизнь: "О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я, наконец, сам поверил себе. Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один смертный, пугайте меня таинственным шумом и приведениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня, я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека; если я не больше, чем закон, то ведь я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне откуда он, если не от вас? Докажите мне, что я ваш - одно безумие может мне доказать это". (64)
Глава 26
Молитва Ницше была услышана: небожители послали ему безумие. Во время одной из его уединенных прогулок по горам швейцарского Энгадина его внезапно, точно молнией, поразила мысль о "вечном возвращении" - и с этого момента характер его творчества совершенно изменяется. Теперь пред нами уже не подпольный человек, робко и осторожно под прикрытием чуждых ему теорий подкапывающийся под принятые убеждения. К нам говорит Заратустра, верующий в свою пророческую миссию, осмеливающийся свое мнение противоставлять мнению всех людей. Но странно, несмотря на то, что Ницше видел в идее о вечном возвращении начало и источник своего нового мировоззрения, он нигде подробно и ясно не развивает ее. Несколько раз в "Also sprach Zarathustra" он начинает говорить о ней, но каждый раз обрывает речь чуть ли на полуслове. Так что невольно приходит в голову подозрение, что "вечное возвращение", в конце концов, было только неполным и недостаточным выражением испытанного Ницше внезапного душевного подъема. Это становится тем более вероятным, что самая идея - стара и не принадлежит Ницше. О ней говорили уже пифагорейцы, и Ницше, специалист классической филологии, конечно, не мог не знать этого. Очевидно, что для него она имела другое значение, чем для древних, и что соответственно этому он мог с ней связывать и иные надежды. И точно, какой новый смысл могло дать его жизни обещание вечного возвращения? Что мог он почерпнуть в убеждении, что его жизнь, такая, какой она была, со всеми ее ужасами, уже несчетное количество раз повторялась и затем столь же несчетное количество раз имеет вновь повториться без малейших изменений? Если бы Ницше в "вечном возвращении" видел только то, о чем говорили пифагорейцы, - оно бы принесло ему мало новых надежд! И, наоборот, раз "вечное возвращение" дало ему новые силы, то, стало быть, оно обещало ему нечто иное, чем простое повторение того, что он уже имел в действительности. Можно поэтому с уверенностью сказать, что идея эта являлась для Ницше прежде всего символическим протестом против господствующей ныне теории познания с ее практическими выводами относительно роли и значения в мире отдельного человека. Она выражала не все, что думал Ницше. Оттого-то он, хотя и называет себя учителем вечного возвращения, учит чему угодно, кроме возвращения; свою же "последнюю мысль" он отказывается прямо назвать. По-видимому, пред лицом тысячелетних предрассудков или убеждений человечества даже "безумие" не имеет смелости быть до конца откровенным. Вот свидетельствующий об этом отрывок из разговора Заратустры с жизнью: "... Жизнь задумчиво оглянулась и тихо сказала: "О, Заратустра, ты мне недостаточно верен! ты любишь меня далеко не так, как говоришь; я знаю, что ты думаешь о том, что скоро покинешь меня. Есть старый тяжелый-тяжелый гудящий колокол; ночью его удары доходят до твоей пещеры, и когда ты слышишь, как в полночь он отбивает часы, ты думаешь между первым и двенадцатым ударом, ты думаешь о том, о, Заратустра, что ты скоро покинешь меня". - "Да, - ответил я медленно, - но ты знаешь также", - и я шепнул ей что-то на ухо, сквозь спутанные русые непокорные локоны ее кудрей... - "Ты знаешь это, о, Заратустра? Этого не знает никто". - И мы снова взглянули друг на друга и на зеленый луг, на который в это время набегал прохладный вечер, и вместе плакали. Но тогда жизнь мне была милее, чем вся моя мудрость". Что шепнул Заратустра жизни? Что это за тайна, которой никто, кроме Заратустры, не знает? Очевидно, что она имеет прямое отношение к "вечному возвращению", но во всяком случае, менее отвлеченна и бессодержательна. Жизнь измучила Заратустру, он хочет расстаться с ней, но тайна, которую он один знает, примиряет его со страданием и научает любить действительность больше, чем мудрость. Непосредственно вслед за разговором с жизнью, как 3-я часть той же песни ("Das andere Tanzlied"), помещено странное, но захватывающее стихотворение, по-видимому, долженствующее хоть отчасти разъяснить смысл "тайны". Оно состоит из двенадцати строк, соответственно двенадцати ударам полночного колокола. Вот оно:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: