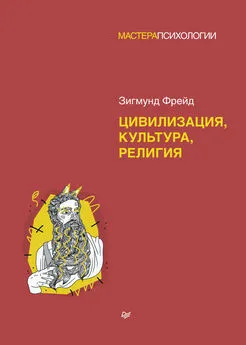Зигмунд Фрейд - Болезнь культуры (сборник)
- Название:Болезнь культуры (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-081527-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зигмунд Фрейд - Болезнь культуры (сборник) краткое содержание
Почему войны неизбежны? Отчего возник кризис культуры в современной Европе? Возможно ли реконструировать личность Моисея – реального человека, а не библейского героя? Юмор – каков механизм возникновения этого чувства?
В сборник вошли избранные произведения австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, созданные в течение всей его жизни, в которых выдающийся мыслитель XX века поднимает важнейшие вопросы культуры, психологии, религии, мифологии.
Болезнь культуры (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Попробуем теперь приложить к меланхолии то, что мы узнали о скорби. В ряде случаев нам становится очевидным, что меланхолия также является реакцией на утрату любимого объекта; в других случаях поводом для меланхолии может служить утрата объекта более абстрактной, идеальной природы. Объект при этом может и не умереть, а был утрачен как предмет любви (например, в случае покинутой невесты). В некоторых случаях можно установить сам факт потери, но невозможно понять, что именно было утрачено, и следует с большой долей вероятности предположить, что и сам больной не всегда знает, что он потерял. Сюда же можно отнести те случаи, когда больному известна утрата, вызвавшая меланхолию, но, хотя он знает, кого он потерял, он не понимает, что именно он потерял при этом. Таким образом, мы можем с полным основанием думать, что меланхолия каким-то образом связана с неосознанной потерей объекта, что отличает меланхолию от скорби, когда о характере потери все известно.
В случае скорби заторможенность и утрата интереса к миру полностью объясняется поглощающим все силы эго трудом скорби. Подобный внутренний труд является следствием неизвестной больному потери и при меланхолии, и именно он становится причиной меланхолической заторможенности. Эта его заторможенность производит столь загадочное впечатление только потому, что мы не можем понять, чем поглощен больной. Меланхолик демонстрирует нам лишь один симптом, который отсутствует у переживающего горе человека: снижение самооценки и оскудение содержания эго. Для скорбящего пустым и бессмысленным становится окружающий мир, для меланхолика таким становится его собственное «я». Больной воспринимает его как ничего не стоящее, ни на что не годное и морально ущербное, – он упрекает себя, ругает и желает изоляции и наказания. Он унижает себя перед кем угодно, жалеет родных и близких за то, что им приходится иметь с ним дело. Больной не понимает перемены, которая с ним произошла, и свою самокритику распространяет также на свое прошлое, утверждая, что он всегда был таким. Картина такого – преимущественно нравственного – тихого помешательства характеризуется бессонницей, отказом от еды и психологически очень примечательным отказом от удовлетворения естественных влечений, заставляющих все живое держаться за жизнь.
С научной, да и с терапевтической точки зрения было бы бесполезно возражать больному, убеждая его в необоснованности самообвинений. Вероятно, больной в чем-то прав и описывает нечто, ведущее себя именно так, как ему кажется. Мы, во всяком случае, должны немедленно согласиться с ним и поверить тому, что он нам сообщает. Больной, как он и говорит, действительно потерял всякий интерес к жизни, способность любить и потребность что-то делать. Как мы знаем, все это не причины, а следствие неведомой нам внутренней работы, сравнимой с трудом скорби и пожирающей изнутри «я» больного. Больной прав и во многих своих самообвинениях, просто он осознает свое истинное положение с большей остротой, нежели люди, не страдающие меланхолией. Если больной клеймит себя как ничтожного, эгоистичного, нечестного, несамостоятельного человека, который всю жизнь только и делал, что изо всех сил скрывал свои недостатки, то, насколько мы понимаем, он просто достаточно хорошо познал самого себя, и мы лишь спрашиваем себя, почему этому человеку надо было заболеть, чтобы осознать столь простую истину. Ведь не вызывает сомнений, что всякий, кто сумел адекватно себя оценить и поделиться этой оценкой с другими, – как поступал принц Гамлет [145]– тот болен, и даже не важно, говорит он правду или преувеличивает свои недостатки. Нетрудно также заметить, что, как мы убедились, между степенью самоуничижения и ее реальной причиной нет прямого соответствия. Бывшая прежде храброй, прилежной и верной долгу женщина, пораженная меланхолией, будет отзываться о себе не лучше, чем женщина, и на самом деле никуда не годная. Причем первая женщина имеет больше шансов заболеть меланхолией, чем вторая, о которой и мы не могли бы сказать ничего хорошего. И наконец, невозможно не заметить, что меланхолик не воспринимает себя так же, как здоровый, но мучимый раскаянием и чувством вины человек. У меланхолика отсутствует или едва заметен стыд перед другими людьми, столь характерный для кающегося грешника. У меланхолика, наоборот, можно отметить противоположную склонность – стремление к саморазоблачению, словно он находит в этом какое-то удовлетворение.
Таким образом, не имеет значения, прав ли меланхолик в своем болезненном самоуничижении и насколько его критика совпадает с суждениями других людей. Скорее надо говорить о том, что он верно описывает свою психологическую ситуацию. Он утратил самоуважение, и, должно быть, у него есть на это веские основания. Во всяком случае, мы сталкиваемся с противоречием, которое задает нам трудноразрешимую загадку. По аналогии со скорбью придется заключить, что меланхолик остро переживает потерю некоего объекта; и, судя по его высказываниям, речь идет о потере им собственного «я».
Прежде чем мы займемся этим противоречием, давайте ненадолго задержимся на одном феномене, который продемонстрирует нам обусловленное меланхолией изменение конституции человеческого эго. Мы видим, что у меланхолика одна часть эго противопоставлена другой части, критически оценивает ее и воспринимает в качестве объекта. Наше подозрение о том, что отделившаяся от эго критикующая инстанция способна доказать свою самостоятельность и при других условиях, подтверждают все дальнейшие наблюдения. У нас есть основания отличать эту инстанцию от остального эго. Эта часть эго называется обычно совестью . Будем считать совесть, с ее цензурой сознания и оценкой реальности, одной из главных институций эго и попробуем обнаружить, способна ли она заболеть. В клинической картине меланхолии нравственное отвращение к собственному эго затмевает все остальные проявления; телесное недомогание, гнусное настроение, социальное унижение куда меньшую роль играют в самооценке, – в опасениях и суждениях больного ведущее место занимает оскудение эго.
Объяснению обнаруженного нами противоречия может служить одно достаточно простое наблюдение. Терпеливо выслушивая многочисленные и разнообразные самообвинения меланхолика, не можешь в конечном счете отделаться от впечатления, что самые сильные из этих обвинений относятся не к больному, а к человеку, которого он любит, любил или должен любить. Чем глубже вникаешь в обстоятельства заболевания, тем больше убеждаешься в правомочности такого предположения. Мы получим в руки ключ к картине болезни, если распознаем в таких самообвинениях обвинения, адресованные объекту любви меланхолика, – обвинения, которые, сместившись, оказались направленными против собственного эго.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
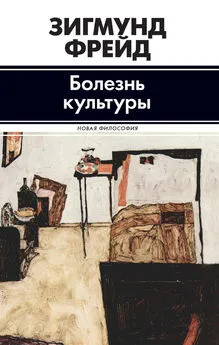

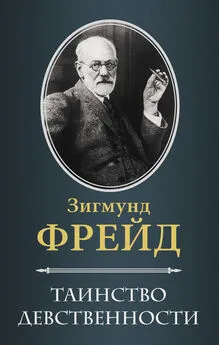
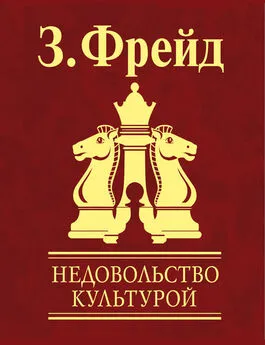
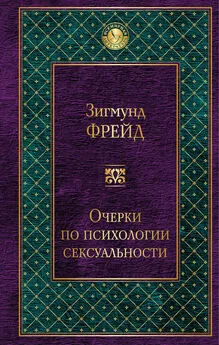
![Зигмунд Фрейд - Сверхчеловек против супер-эго [сборник]](/books/1099894/zigmund-frejd-sverhchelovek-protiv-super.webp)
![Зигмунд Фрейд - Психопатология обыденной жизни. Толкование сновидений. Пять лекций о психоанализе [сборник]](/books/1099895/zigmund-frejd-psihopatologiya-obydennoj-zhizni-tolk.webp)