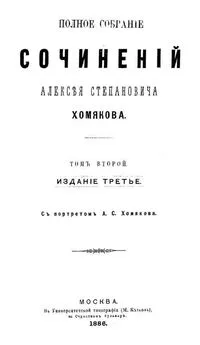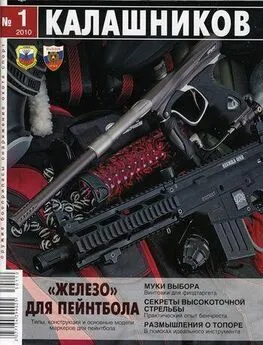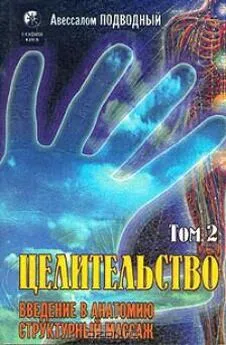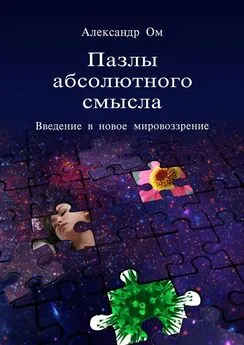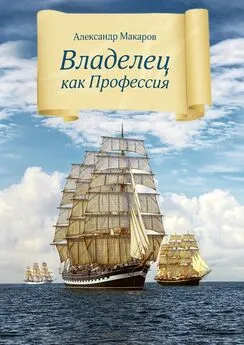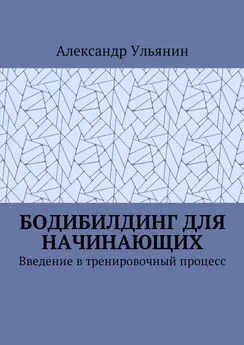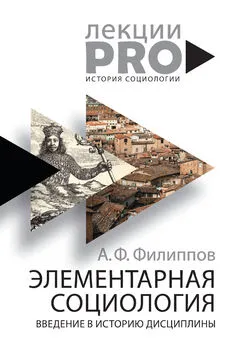Алекс Бэттлер - Мирология. Том I. Введение в мирологию
- Название:Мирология. Том I. Введение в мирологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИТРК»c7b294ac-0e7c-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-88010-306-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алекс Бэттлер - Мирология. Том I. Введение в мирологию краткое содержание
Автор предлагаемого труда – канадский ученый Алекс Бэттлер (Олег Арин), перу которого принадлежит более 400 работ в различных областях науки, включая 22 индивидуальные монографии. Результатом его научной работы стало открытие ряда законов и закономерностей в области философии, социологии, теории международных отношений.
Предлагаемый многотомный труд не имеет аналогов в мировой научной литературе, поскольку в нем впервые поставлена задача создания целостной науки – мирологии (науки о мире).
Первый том посвящен основам новой науки, ее философской и науковедческой базе, т. е. фундаменту, на котором строится все здание мирологии. В последующих томах раскрываются ключевые понятия и категории, на которых базируется современная научная дисциплина – теория международных отношений. Новое авторское видение и открытие законов и закономерностей в теории международных отношений превращает данную дисциплину в науку о мире. Автор вводит новые понятия и категории мирологии, а также вскрывает законы и закономерности, на основе которых функционирует вся система мировых отношений.
Автор полемизирует практически со всеми ведущими учеными мира в области международных отношений, и его аргументированный философский стиль нападения впечатляет тщательностью и глубиной.
Книга рассчитана на исследователей, ученых, знатоков философии и всех тех, кто стремится познавать мир.
Мирология. Том I. Введение в мирологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он, естественно, не отрицает хаос как одно из явлений на международной арене, но политики обязаны обуздать его на основе искусства дипломатии, рассматривая мир как он есть, а не таким, каким мы хотим, чтобы он был.
А вот рассуждения еще одного участника конференции, физика Элвина Сейперстейна (Wayne State University). Он определяет сложность как связку (совокупность) детерминистских теорий, которые не обязательно ведут к долгосрочным прогнозам. Это потому, что будущее прогнозируется на основе настоящего, но мы не можем быть четко уверены в правильной оценке настоящего, (ibid., р.58).
Положение усугубляется тем, что любая система устремляется к хаосу, следовательно, предсказать поведение системы практически невозможно. Но, оказывается, возможно предсказать вероятность самого хаоса или хаотичного поведения. И это дает политику в руки инструмент для того, чтобы избежать «опасного поведения». «Таким образом, – пишет физик, – любая детерминистская модель, в явной или неявной форме, на основе которой базируется прогноз, дает возможность „заглянуть в будущее“… Следовательно, способность прогнозировать непредсказуемое является очень полезным инструментом для принятия политических решений» (ibid., р. 48). В этих целях он предлагает использовать количественные модели динамических систем. Если же они будут недостаточны, то следует обращаться к «вербальным моделям, которые имеют долгую историю и потенциал» (ibid., р. 57).
Здесь Сейперстейн фактически излагает действие закона возрастания энтропии в закрытых системах, который применим к любым явлениям. Мне не надо быть специалистом ни в одной области, чтобы стопроцентно утверждать устремленность любой совокупности явлений к хаосу. Но мне надо обладать определенной суммой знаний, чтобы понять, в каких формах и в каких структурных или пространственно-временных режимах работает закон энтропии, что позволит направить его энергию на достижение необходимого мне результата, например в системе мировых отношений. И я сильно не уверен, что теория сложности может быть мне в этом полезной. Самое любопытное, что и сам физик склоняется к такому же выводу. Он пишет:
Для меня не очевидно, что единственная метафора / инструмент – типа хаоса – подходит или вообще может быть полезна для нас, когда имеешь дело с мировой системой, которая характеризуется термином сложность (ibid., р. 55).
Главное достоинство всей этой теории, по мнению Сейперстейна, заключается в следующем: «Когда все сказано и сделано на стратегическом уровне, наиболее полезные аспекты метафор хаоса и сложности – это напомнить нам и помочь нам не свалиться в хаос» (ibid., р. 58).
И только!
После этой конференции было немало других конференций и публикаций на тему теории сложности. Например, одна из книг называлась «Сложность в мировой политике: понятия и методы новой парадигмы» под редакцией Нейла Харрисона [74], авторами которой были новые приверженцы теории сложности (среди участников, правда, был и Джеймс Розенау). О самой теории как методе они фактически повторили все ранее сказанное. В своих же рассуждениях на конкретные международные темы от этой теории оставили только термин сложность . Видимо, теория сложности как некая целостная методология так и не стала операционным инструментом анализа международных отношений. Что в общем-то и неудивительно.
В то же время вызывает удивление другое. Авторы продолжают обсуждать проблемы, которые, как мне казалось, были решены задолго до их дискуссий. Например, дискуссионной проблемой осталась тема государства: является ли оно замкнутой или открытой системой. Всерьез обсуждается и тема «различных онтологических слоев в мире», под которыми понимаются система, государство, общество, правительство и индивидуум. Один из авторов, Дэвид Сингер, в одной из частей, написанной в паре с Харрисоном, ссылаясь на свою раннюю работу, пишет в этой связи:
Возможно, фатальный… недостаток заключается в общей тенденции сосредоточиться только на одном уровне анализа, а не иметь дело с взаимодействиями, которые происходят на нескольких соответствующих уровнях. Привычная сосредоточенность на одном-единственном уровне анализа мешает теоретикам видеть внушительные процессы на других уровнях анализа (ibid., р.26).
Вообще-то данное утверждение довольно странное, поскольку в любой книге по международным отношениям в той или иной степени затрагиваются все указанные «онтологические слои». Хотя, естественно, и среди международников существует специализация, обязывающая их сосредотачиваться на каком-то конкретном «слое». Просто надо четко различать общие и конкретные работы, фундаментальные и прикладные. Здесь нет места дискуссиям.
Искусственной мне представляется и тема, поднятая Харрисоном. Он, например, делает такие «открытия»:
…социальные системы не являются бинарными, например авторитарными или не авторитарными. Я полагаю, что все общества являются сложными и могут быть смоделированными на базе понятий сложности. Но некоторые имеют более централизованный контроль и поэтому менее сложны, чем другие (ibid., р. 188).
Это отголосок прошлых дискуссий о том, что чем более централизован контроль, тем система менее сложна, а следовательно, более прогнозируема, чем децентрализованные системы. В качестве примера он приводит и такую «истину»: в физическом мире объекты или являются «членами категории или не являются». В том смысле, что электрон – это электрон, молекула – это молекула. А вот человек в качестве субъекта может быть отнесен к одной или к нескольким «референтным группам», к одному или нескольким «психологическим состояниям». «Таким образом, в социальных науках „пересеченность и избыточность“ (явления)… является особенно ценным вкладом в накопление знаний» (ibid., р. 187).
Почти двести лет назад Гегель разъяснил, как группировать подобные типы явлений через понятия всеобщее, особенное и единичное. Дискутировать на эту тему в наше время как минимум довольно странно. В понимании таких вещей нужна не теория сложности, а элементарная диалектика, единственным недостатком которой является сложность ее усвоения.
Я не собираюсь призывать к отказу от использования теории сложности в мировых отношениях. Просто пока я не вижу ее продуктивных результатов, точно так же как и идей Пригожина, о которых так много говорят и пишут.
В 1990-е годы популярность среди части международников и политологов получили не только теория сложности, но и так называемые нелинейные подходы познания, связанные с синергетикой и идеями бифуркации и диссипативных структур Ильи Пригожина. Много причин существует для популярности этих теорий, но среди них сразу бросаются в глаза две. Во-первых, все эти теории провозглашают невозможность на научной основе в принципе предсказать будущее. Тем самым они «научно» оправдывают провал всех прогнозов теоретиков и международников относительно мировых событий конца XX века. Во-вторых, и это более существенно, все эти теории «опровергают» классический детерминизм, то есть последовательную причинно-следственную связь всех явлений в мире. Особую радость от этого испытывают ученые антикоммунистической ориентации, поскольку, по их мнению, детерминизм встроен в марксистскую парадигму, в ее методы исторического и диалектического материализма. И потому провал детерминизма означает провал марксизма как науки. Точно так же антикоммунистически настроенные ученые радовались «провалу материализма» (=марксизма) в начале 1920-х годов, когда возникли общая теория относительности Эйнштейна и квантовая механика, которые провозгласили «конец материи» и «абсолютных истин». «Конца» не получилось, и относительность истины не отменила ее научность. Теперь на вооружения взяты новые слова: синергетика [75] , бифуркация, флуктуация, диссипативные структуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: